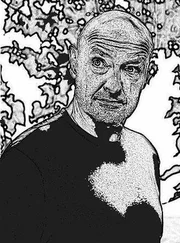Однако жизнь продолжалась. Не успела прекрасная негоциантка сесть на корабль, как Пушкин снова у ног прелестной Воронцовой. Настойчивые ухаживания поэта раздражали графа, который не был жалким ревнивцем, но как любой аристократ понимал разницу между собой и своими служащими. В нем, по воспоминаниям Б. А. Маркевича, воспитанном в Англии чуть не до двадцатилетнего возраста, была «вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорил», так же был сдержан и безукоризнен во внешних приемах своих, так же горд, холоден и властен, как любой из сынов аристократической Британии. Наружность Воронцова поражала своим истинно барским изяществом. Высокий, сухой, замечательно благородные черты, словно отточенные резцом, взгляд необыкновенно спокойный, тонкие, длинные губы с вечно игравшею на них ласково-коварною улыбкою. Чем ненавистнее был ему человек, тем приветливее обходился он с ним. Чем глубже вырывалась им яма, в которую собирался он пихнуть своего недоброхота, тем дружелюбнее жал он его руку в своей. Тонко рассчитанный и издалека заготовляемый удар падал всегда на голову жертвы в ту минуту, когда она менее всего ожидала такового.
С другой стороны Воронцов был весьма храбрым человеком. Ему было двадцать один год, когда он, при штурме крепости во время русско-турецкой войны вынес с боя своего раненого товарища. В 1812 году он храбро воюет с французами, по приказу Кутузова форсирует Дунай и принуждает неприятеля к отступлению. При Бородине он проливает свою кровь за отечество. Получив образование в Англии, Михаил Семенович, будучи царским наместником на Юге России проявил себя грамотным и хорошим организатором, совершил много полезного для устройства новых российских земель. Слишком импульсивные и публичные действия поэта вызвали неудовольствие сиятельнейшего супруга. Дадим слово все тому же Ф. Ф. Вигелю: «Несмотря на скромность Пушкина, нельзя было графу не заметить его чувств. Он не унизился до ревности, но ему казалось обидно, что ссыльный канцелярский чиновник дерзает подымать глаза на ту, которая носит его имя. И боже мой Поэтическая страсть всегда бывает так не опасна для предметов, ее возбуждающих: она скорее дело воображения и производит неловкость, робость, которые уничтожают возможность успеха. Как все люди с практическим умом, граф весьма невысоко ценил поэзию; гениальность самого Байрона ему казалась ничтожной, а русский стихотворец в глазах его стоял едва ли выше лапландского. А этот водворился в гостиной жены его и всегда встречал его сухими поклонами, на которые, впрочем, он никогда не отвечал.
Негодование возрастало, да и Пушкин, видя явное к себе презрение начальника, жестоко тем обижался и, подстрекаемый Раевским, в уединенной с ним беседе часто позволял себе эпиграммы. Не знаю как, но, кажется, через Франка все они доводимы были до графа».
То же самое подтверждает другой современник поэта: «Мрачное настроение духа Ал. Сергеевича, – вспоминал И. П. Липранди, – породило множество эпиграмм, из которых едва ли не большая часть была им только сказана, но попала на бумагу и сделалась известной. Эпиграммы эти касались многих и из канцелярии графа. Стихи его на некоторых дам, бывших на бале у графа, своим содержанием раздражали всех. Начались сплетни, интриги, которые еще более тревожили Пушкина. Говорили, что будто бы граф через кого-то изъявил Пушкину свое неудовольствие, и что это было поводом злых стихов о графе. Услужливость некоторых тотчас распространила их. Граф не показал вида какого-либо негодования; по-прежнему приглашал Пушкина к обеду, по-прежнему обменивался с ним несколькими словами».
Тот град эпиграмм, что обрушил на него поэт, и которые мы так тщательно заучивали в школе, были вызваны более обиженным самолюбием Пушкина, чем действительными придирками графа. «Он (т. е. Пушкин. – А. Л .) хотел, – пишет А. Мадорский, – чтобы его гениальный дар признавался правом на совершенно исключительное положение во всем и всюду. И к тому же невзирая на любое поведение. Мол, мне все дозволено, ничего не возбраняется. А удел окружающих – восхищаться мною при всяком моем поступке, пусть и осудительном для кого бы то ни было».
Ведь поначалу граф Воронцов принял ссыльного Пушкина ласково. Он снисходительно, почти как старик Инзов, относился к совершенному бездельничанью поэта, хотя тот числился чиновником, и должен был хоть немного времени проводить на работе, а не в гостиных прекрасных дам. Пушкин зачитывался книгами в прекрасной библиотеке графа, столовался у него, ухаживал за его женой. Все это прощалось. Но когда Воронцов послал поэта вместе с другими чиновниками в степь на борьбу с саранчой, Пушкин рассвирепел истинно по-африкански. «Через несколько дней по приезде моем в Одессу, – вспоминает Вигель, прибывший из Кишинева в ночь на 16 мая 1824 года, – встревоженный Пушкин вбежал ко мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унизительнее; сим ударом надеялся граф Воронцов поразить его гордыню. Для отвращения сего добрейший Казначеев медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отмене приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе. Он (граф Воронцов. – А. Л .) побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: “любезный Ф. Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в приязненных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце”, а через полминуты прибавил: “также и о достойном друге его Раевском”. Последнее меня удивило и породило во мне много догадок».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу