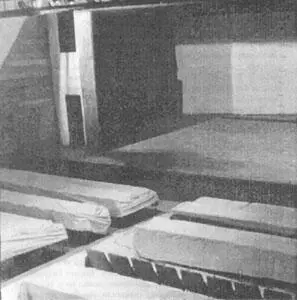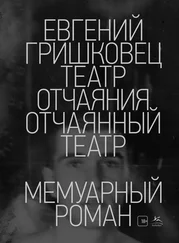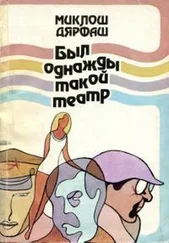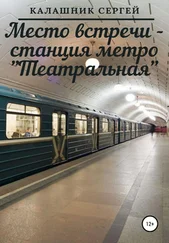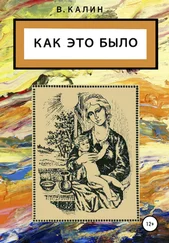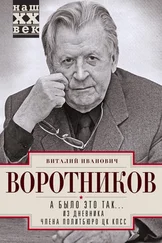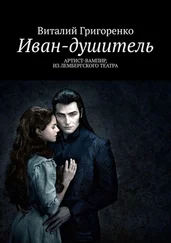Включается фонограмма:" Пр-р-р-ро-то-пи-и-и ты мне баньку по-белому..."
Валерий вторит мертвому другу.
Видно, как трудно даётся ему это. Вспоминаю, как при жизни они пели вместе эту песнь. По-моему, работа Золотухина в этой сцене - актёрский подвиг, да простят мне высокий штиль. Но именно так я считаю. "Банька" каким-то непонятным образом переходит в знаменитый монолог Гамлета: "Быть или не быть..." Запись сделана, видимо, во время одного из последних спектаклей: слышишь, как трудно Высоцкому. Не потому ли Леня Филатов -друг Горацио - перебивает фонограмму: "Принц, если у вас душа не на месте - послушайтесь её. А я скажу, что вам не по себе..." Чем ответит Высоцкий?
- Как засмотрится мне нынче, как задышится?
Воздух крут перед грозой, крут да вязок.
Что споётся мне сегодня, что услышится?
Птицы вещие поют - да все из сказок.
И в самом конце:
Купола в России кроют чистым золотом -
Чтобы чаще Господь замечал...
Нагнетается главная тема - тема жизни и смерти. Звучат "Райские яблоки" и "Я из дела ушёл", "Мне судьба - до последней черты, до креста..." и "Охота на волков". Эта тема возникает и в очередном диалоге вроде бы гамлетовских персонажей... Но Демидова, вдруг напрочь отбросив роль Гертруды, начинает, будто бы сыну, читать известные песенные строки:
Беда!
Теперь мне кажется, что мне не успеть за собой.
Всегда
Как будто в очередь встаю за судьбой.
Дела!
Меня замучили дела - каждый миг, каждый час, каждый день.
Дотла
Сгорело время, да и я - нет меня, - только тень, только тень.
Ты ждешь,
А может, ждать уже устал - и ушёл или спишь, -
Ну что ж, -
Быть может, мысленно со мной говоришь.
Теперь
Ты вечер должен нам один подарить.
Подари!..
Всем ясно, какому другу сейчас адресуются эти строки Высоцкого и, общее желание выражая, прорывается голос Лени Филатова:
- Послушай, ведь мы же знаем, что ты здесь! Выходи, говори!
А в ответ - после долгой-долгой паузы - песня Высоцкого оттуда же сверху, из той же точки. Гремят над зрительным залом и над тем залом, что на сцене, его бессмертные "Кони привередливые":
... Я коней напою,
я куплет допою,
хоть немного ещё
постою
на краю...
Вот и всё. Всё о спектакле, который даже названия получить не успел. Чаще других фигурировали "Быть или не быть"и просто "Владимир Высоцкий".
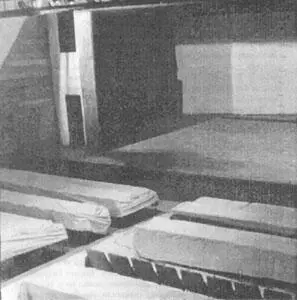
Эта глава - заключительная - писалась в два захода. В первый раз настроение сделать её возникло в январе 1985 года. Были на то причины. И смысл был. Есть такое литературное правило: браться за перо лишь поняв, чем заканчивать будешь. Сейчас, больше полугода спустя, когда рукопись готова практически полностью, я использую, естественно, те январские записи, но события этих месяцев волей-неволей заставят внести коррективы. Нельзя дважды войти в одну и ту же воду... Итак, глава последняя.
Январь 1985 года. Конец января. Рукопись еще посередине - лишь начата глава о спектакле "Послушайте!" Но симптоматичная опечатка появилась в "Вечерней Москве", которая, как и другие газеты - "Правда", "Труд", "Неделя", "Литературка" - откликнулась на первую безлюбимовскую премьеру Таганки - "На дне". Прямо-таки бурный поток после стольких лет молчания.
Хвалят актерский ансамбль, больше всего - Ивана Бортника в роли Сатина, но и Яковлеву (Настю), Смехова (Барона), Славину (Василису). На мой взгляд, лучшими в том прогоне, что видел, были Золотухин (Васька Пепел) и Полицеймако (Квашня). Но начал-то с опечатки... Критик Г.Михайлова писала ("Вечерняя Москва", 14 января 1985 г.) об А.В.Эфросе, не случайно "выбравшим для своего дебюта в качестве главного режиссёра Драматического театра на Таганке горьковскую пьесу "На дне"...
Мой Театр назывался и, насколько я знаю, этого названия пока ещё никто не отменял, Московским театром драмы и комедии на Таганке. А Московский драматический-то в другом конце московского нынешнего центра, поближе к Агентству по авторским правам...
Эфрос, в общем то, сделал из "На дне" достаточно таганский спектакль - и но мысли, и по сценографии (здесь использованы почти целиком сценографические заготовки к "Борису Годунову"). Даже фрагмент одной из песен Высоцкого попал ни к селу ни к городу в музыкальную окантовку спектакля. Вообще как к руководителю, новому руководителю, пришедшему на театр в очень трудный момент, претензии труппы к нему были, на мой взгляд, излишни. Он ничего не менял в труппе и в распорядке театрального бытия. Он не занял - деталь, конечно, но красноречивая, замечу, деталь - любимовский кабинет. Сделал себе скромный, аскетический кабинетик на месте старой мужской артистической, сохранив там гримировальный столик Высоцкого. А кабинет Юрия Петровича с автографами на стенах год пустовал, лишь потом туда вселилась бездомная литчасть.
Читать дальше