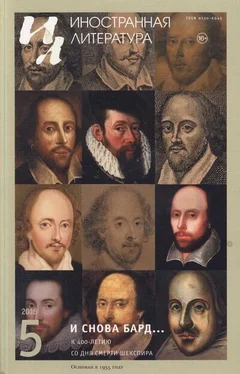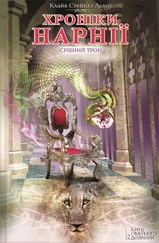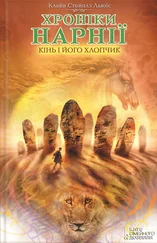Виталий Поплавский [223] Виталий Романович Поплавский (род.1964) — театральный критик, режиссер-педагог, доцент кафедры культуры и искусства Московского гуманитарного университета, переводчик Шекспира, автор и составитель книг, посвященных рецепции и переводам Шекспира.
Жанр шекспировского «Гамлета» в российских постановках второй половины XX века
Опыт театральных и кинематографических интерпретаций шекспировской пьесы о датском принце свидетельствует, что Гамлет может быть каким угодно: молодым или зрелым, стройным или полным, высоким или низкорослым, чисто выбритым или бородатым, с пышной шевелюрой или лысым, мрачным или жизнерадостным, взрывным или спокойным, со звонким тенором или низким басом — и так далее. (Напрашивается продолжение: может быть и женщиной, но такая вольность разрушает заданную автором объективную ситуацию.) Любую из перечисленных трактовок, как и множество других, не перечисленных, пьеса легко выдерживает. Но вместе с героем неизбежно меняется конфликт, а вслед за ним — и жанр произведения. Проследим эту закономерность на примере интерпретаций «Гамлета» в российском театре и кино второй половины XX века.
Одновременное появление в 1954 году двух постановок «Гамлета» на московской (Театр имени Вл. Маяковского, перевод М. Лозинского, режиссер Н. Охлопков) и ленинградской (Театр драмы имени А. С. Пушкина, перевод Б. Пастернака, режиссер Г. Козинцев) сценах было глубоко закономерно. XX съезд был еще впереди, но после смерти Сталина страна неизбежно вступила в пору обновления, и шекспировская трагедия, которую вождь народов в свое время посчитал неактуальной по причине слабости главного героя, из-за чего не состоялась премьера во МХАТе в середине 40-х, на новом витке общественного развития пришлась как никогда кстати. Пьеса о датском принце в контексте исторического момента выражала выстраданную народом потребность в освобождении от гнета репрессий. Образ Дании-тюрьмы не был абстрактным — скорее, наоборот, воспринимался слишком буквально. От режиссеров тут мало что зависело: пьеса говорила сама за себя, политический подтекст проявлялся имплицитно. Зависело от них, кого назначить на главную роль.
Григорий Козинцев, интеллигент-гуманист до мозга костей, на роль Гамлета выбрал Бруно Фрейндлиха — тоже утонченного интеллигента, видимо, близкого режиссеру по духу. Николай Охлопков, выпускник кадетского корпуса, предложил Гамлета Евгению Самойлову, актеру из рабочей семьи, который во всех ролях, от Щорса в одноименном фильме до князя Шуйского в позднейшей постановке «Царя Федора Иоанновича» в Малом, был похож на своеобразного «выдвиженца» — то ли секретаря парторганизации, то ли обкомовского работника, глубоко порядочного, положительного, искреннего в своем желании привести вверенный ему участок земного шара к мировой гармонии. Экзальтированный герой Фрейндлиха приходил в ужас от сознания того, что попирается человеческое достоинство, и жертвовал жизнью, сохраняя верность своим идеалам и утверждая их непреложность. Более «земной», но не менее темпераментный герой Самойлова отказывался мириться с социальной несправедливостью как таковой и, кажется, ни на мгновенье не терял уверенности в том, что все можно изменить к лучшему, надо только найти верный способ, как вправить вывих травмированному времени.
В игре сорокапятилетнего Фрейндлиха ведущей интонацией была благородная скорбь мудреца. Самойлов, которому тогда было сорок два, убедительно передавал почти детское удивление взрослого человека неправильным мироустройством. У двух столь несхожих героев было нечто общее: каждый из них находился в конфликте с внешним миром, причем не с целым миром, а лишь с одной, не самой лучшей, его частью — но внутренний конфликт, душевный разлад им обоим был неведом. Им обоим приходилось жертвовать собой, но жертва не была напрасной, гуманистические идеалы торжествовали, социальная гармония ждала своего восстановления. Цена этого восстановления была непомерно высокой, потери невосполнимы, но впереди виделось светлое будущее. Шекспировская пьеса представала героической драмой. Это наглядно иллюстрировалось финалом ленинградского спектакля, где герой, «воскреснув» после смерти, обращался к зрительному залу с текстом 74-го сонета Шекспира в переводе С. Маршака (перевод Пастернака, заказанный поэту Козинцевым, очевидно, чем-то не устроил режиссера — возможно, версия Маршака показалась более оптимистичной).
Читать дальше