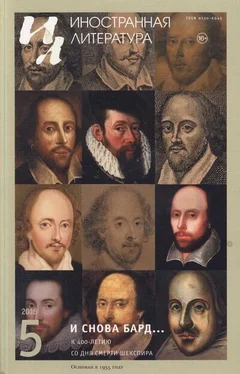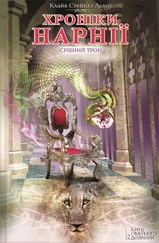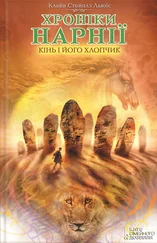Посему Макиавелли придает огромное значение личности тирана и установлению безошибочной, непогрешимой системы правления, которая позволит такому тирану-государю поработить и дисциплинировать любое общество, избранное им для осуществления цели. Разумеется, любимец Макиавелли — индивидуальный герой.
* * *
Все важные черты Макиавелли — как и Ницше — думается, можно возвести к страсти к действию. Обе эти философии, пожалуй, основаны на принципе агента.
Шекспир, «державший зеркало перед природой», видимо, подобной страстью одержим не был и, на первый взгляд, составлял полную противоположность апостолам активности (тем более что его главный герой, Гамлет, воплощает собой, заметим, уклонение от действия: так сказать, ортогонален действию).
Все сочинения Шекспира — это скорее критика действия и принципа агента, что с полной ясностью выражено лишь в «Гамлете», где персонифицировано. У Шекспира как несравненного наблюдателя жизни есть ясное представление о происходящем, и, хоть ни единым протестующим жестом не отзывается он на течение личного бытия, бесконечным числом жестов отвечает он на окружающую жизнь. И не просто на жизнь, а и на активное действие…
Если Макиавелли выступал как адвокат, загипнотизированный современной ему деятельной жизнью, а Мольер — как ее противник и критик, то Шекспир — не был ни тем ни другим. Если угодно, он — противник самой жизни (коль скоро быть ее критиком означает быть ее противником, а что поэзия — критика жизни, давно считается верным ее определением), и его сочинения — прекрасно-бесстрастное излияние ярости, горечи, обличений и жалоб; к примеру, жалоб — в сонетах, ярости — в «Тимоне Афинском» и в других трагедиях и хрониках. Если это и действие, то действие, к которому Шекспир не только не питал презрения, но был его величайшим адептом. Он трагически разделял трагический опыт всех своих героев, и они в несравненно большей степени были зеркалом, отражавшим его утомленный и озадаченный ум, нежели зеркалом природы, которую он знал объективно. Усталый от всего [139] Точка зрения, которая стала популярной благодаря такому прочтению «Бури» Литтоном Стрэчи («ИЛ», 2014, № 5). (Здесь и далее — прим. перев.).
. — таким мы его видим, но существовало и нечто иное, привязывавшее его к героям и, оставь он их, ему бы пришлось оставить и то, что следует назвать его философией, знакомой нам и по «Опытам» Монтеня. Те же пытливость и разочарование, та же дивная гибкость слога, та же страстная приязнь к другому человеку, те же юмор и скептицизм.
* * *
Из длинной череды королей, которые вышли из под его пера, одни были «низложены», другие — «убиты в бою», а то и стали «призраками жертв своих», «тот был отравлен собственной женой», «а тот во сне зарезан» — в общем и целом, почти все нашли насильственную и бессмысленную кончину, шумно настаивая на божественном праве и королевских привилегиях, испытывая возмущение или раскаяние. Он, наверное, не больше думал об этих королях [140] Давайте сядем наземь и припомним Предания о смерти королей. Тот был низложен, тот убит в бою, Тот призраками жертв своих замучен, Тот был отравлен собственной женой, А тот во сне зарезан, — всех убили. Внутри венца, который окружает Нам, государям, бренное чело, Сидит на троне смерть, шутиха злая, Глумясь над нами, над величьем нашим. Ричард II. Акт III, сц. 2. Перевод Мих. Донского.
, прошедших через его руки, чем Гиббон [141] Эдвард Гиббон (1737–1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи».
о своей галерее деспотов. Но образ булавки, которая легко проткнет «несокрушимую, как медь, стену» из плоти (тогда «прощай, король!»), — это плод размышления поэта, а не Ричарда Плантагенета: «Они вводили в заблужденье вас!» [142] Она потешиться нам позволяет: Сыграть роль короля, который всем Внушает страх и убивает взглядом; Она дает нам призрачную власть И уверяет нас, что наша плоть — Несокрушимая стена из меди. Но лишь поверим ей, — она булавкой Проткнет ту стену, — и прощай, король! Накройте ваши головы: почтенье К бессильной этой плоти — лишь насмешка. Забудьте долг, обычай, этикет: Они вводили в заблужденье вас. Там же.
Эта простая шекспировская фраза — великое разоблачение особы, облаченной властью, — имеет универсальное значение и выходит далеко за пределы разочарования Ричарда II в королевской участи. Но при всем своем августейшем презрении к другим людям Ричард произносит эту фразу не потому, что он король, а потому что он человек — автор захотел показать в нем человека. И неудивительно, что Шекспир не проявляет враждебности к пресловутым монаршим привилегиям. Он слишком хорошо знает им цену, чтобы поверить, что короли, переодевшись в другое платье, или не изъясняясь более белым стихом, или утратив механизм власти, изменятся по существу. Неужто вы верите, будто Шекспир был так наивен, что полагал, будто живет при более жестоком режиме, чем тот, что придет завтра, или послезавтра, или послепослезавтра, или же тот, что был до нынешнего?! Да, он принимал своих королей, но отнюдь не так милостиво, как полагают сегодня.
Читать дальше