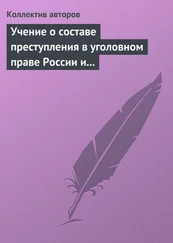Сам он говорил мало, о мошеннических своих проделках не распространялся, больше вспоминал, как завтракал в «Астории» перед выходом на «работу», и эти воспоминания утешали его, да он и не плакался на судьбу. «Лучше так жить, как я, а там уж как случится. Я-то знаю, за что сел, есть что вспомнить». — «А жена молодая?» — спрашивал я. — «А её дело такое — ждать, пока выйду. Я ей много оставил — дождётся», — говорил он своим острым присвистывающим голосом. «Что ты всё присвистываешь?» — спросил я его. — «Да гайморит, нос простуженный всю дорогу, никак не вылечу: мусора всё мешают».
Так и сидели мы с ним, но недолго совсем — одну неделю. И скрылся он за дверью со своим узелком, со своим присвистывающим голоском и фотографиями ждущей дни и ночи молодой жены.
* * *
О четвёртом наберётся у меня слов немного, потому что сидел он со мной дня три. Это был парень лет девятнадцати, а то и меньше, среднего роста, белобрысый, полнолицый, с туповатым взглядом и медленными движениями. Очень любил он поесть и притом прихватить чужого. Однажды, уходя на допрос, оставил я несколько пряников, присланных из дома, на тумбочке; вернувшись, их не обнаружил. Я спросил его. «А в тюрьме коммунизм, тут закон такой — всё общее», — сказал он убеждённо.
Попал он, по его словам, за то, что, якобы, избил хулигана, изнасиловавшего девочку где-то на реке, в глухом месте. «Вышла из кустов, рубаха порвана, по ногам кровь текёт, плачет. А я парнишка физически развитый, догнал мужика — и по голове, да ногами». Как-то не похоже это было на него. Такие как раз и насилуют девочек в кустах, а потом те выходят оттуда разодранные, в крови и слезах. Много таких белобрысых да низколобых по питерским дворам тусуется да в подъездах маячит, гремит в ночи наглым магнитофоном и грохочет сумасшедшим мотоциклом, а сейчас и на «мерседесах» гоняет.
О себе я ему, понятно, не рассказывал, и слава Богу, дня через три его забрали. И остался я один ждать пятого сокамерника, который вскоре появился.
* * *
Пятого звали Мишей, и был он, что называется, отпетый урка. Я такого первый раз видел, а сидеть мне с ним пришлось недели две, срок для тюрьмы немалый. Был он средних лет, среднего роста — средний, можно сказать, представитель преступного мира, что прячется в тёмных углах тёмного ночного города перед тем, как выйти на тёмный свой промысел. Впрочем, они и днём ходят, у кого какая метода.
Миша был весь какой-то серый, пустоглазый, глухоголосый. Я чувствовал исходящую от него неприязнь, но внешне он её почти не выказывал. Урки вообще довольно сдержанный народ, и любят закатывать свои психические номера в основном перед начальством. Он внимательно оглядывал меня своими хмуроватыми пустышками и спрашивал, спрашивал. Явно он работал на КГБ, видно, кое-что они пообещали ему.
О своём деле говорил обиняками, но там проступало что-то серьёзное. Да и цементный пол нашей с ним камеры топтал он явно не в первый раз. Всех моих предыдущих сокамерников он считал стукачами, особенно злобно отзываясь о первых двух. Тут и национальная враждебность сквозила, позже прорвалось в нём:
«Знаю, как евреи воевали, пока мы в блокаду дохли, знаем, как они воевали в Ташкенте на солнышке». — «А ты в блокаду в Ленинграде был, что ли? Ты же говорил, что из Кировска родом и жил там, вчера ещё говорил». — «Не я, так другие, такие, как я, какая разница».
Обращался он ко мне то на «вы», когда уговаривал передать с ним письмо на волю родным: «Я под каблук прилажу, век не догадаются», — то на «ты», когда я на эти уговоры не шёл, чуя подвох. К делу моему он относился полупрезрительно. «Что там стихи, кто их читает. Я вот сидел с профессором, он на Сталина бумагу писал, четыре года без приговора сидел, а потом десятку дали. Вот это политиканты, это настоящие». О прошлом вспоминал редко, было ощущение, что ни отца, ни матери у него отродясь не было, так и вылез в зэковской робе из скважины в громоздких тюремных дверях. Власть не ругал, но обижался на неё за то, что неправильно она смотрит на «преступность мир», — так он говорил, льдисто глядя на меня своими пустыми глазами. «Надо человеку дать работу и жильё, когда он освободился. Куда же нам податься, коли баба не дождалась, куда идти? Так вовек не изведётся преступность мир, да власти и надо, чтобы мы воровали, чтобы было, за что ментам хлеб есть».
О женщинах говорил мало, всё вспоминал со смехом, как пили водку под солёные огурцы на хате с бабами, а потом, говоря его словами, совали им в м… огурец. «Как дашь по брюху, он раз — и в потолок, вот смеху было, раз — и в потолок, так и скачет, а то в стену. Целую ночь пуляли».
Читать дальше
![Анатолий Бергер Состав преступления [сборник] обложка книги](/books/71535/anatolij-berger-sostav-prestupleniya-sbornik-cover.webp)


![Анатолий Бергер - Времён крутая соль [сборник]](/books/71511/anatolij-berger-vremen-krutaya-sol-sbornik-thumb.webp)

![Анатолий Бергер - Горесть неизреченная [сборник]](/books/71533/anatolij-berger-gorest-neizrechennaya-sbornik-thumb.webp)