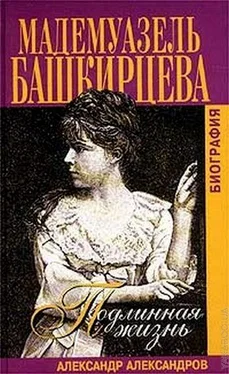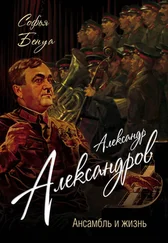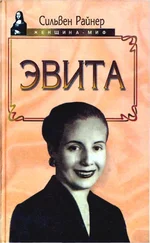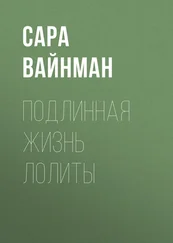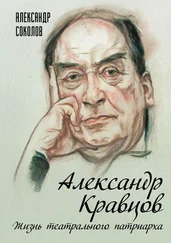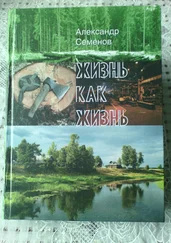«Ничего нельзя сравнить с Веласкесом, но я еще слишком поражена, чтобы высказывать свое мнение», — записывает она 2 октября, а 10 октября, уже посетив музей одна, без своих мам, пишет подробнее:
«Что же касается живописи, то я научаюсь многому; я вижу то, чего не видела прежде. Глаза мои открываются, я приподнимаюсь на цыпочки и едва дышу, боясь, что очарование разрушится. Это настоящее очарование; кажется, что, наконец, можешь уловить свои мечтания, думаешь, что знаешь, что нужно делать, все способности направлены к одной цели — к живописи, не ремесленной живописи, а к такой, которая вполне передавала бы настоящее, живое тело, если добиться этого и быть истинным художником, можно делать чудесные вещи. Потому что все, все — в исполнении. Что такое «Кузница Вулкана» или «Пряхи» Веласкеса? Отнимите у этих картин это чудное исполнение, и останется просто мужская фигура, ничего больше. Я знаю, что возмущу многих: прежде всего, глупцов, которые так много кричат о чувстве… Ведь чувство в живописи сводится к краскам, к поэзии исполнения, к очарованию кисти. Трудно отдать себе отчет, до какой степени это верно!»
Она заключает свое рассуждение о живописи словами: «Нужно, подобно Веласкесу, творить, как поэт, и мыслить, как мудрец».
Надо сказать, что как художественный критик, она значительно опережает в развитии себя же художника. Мысль о том, что в живописи главное — краски, а не чувство, и тем более не мысль, принадлежит уже будущему, а не прошлому, в котором она копается вместе со своими академическими учителями. Хотя картины Диего Веласкеса, на основании которых она приходит к этому заключению, картины художника его последнего периода, вполне академичны и укладываются в те схемы, которыми пользуется академизм Салона ее времени — это достаточно многофигурные и сложные композиции с вполне литературным сюжетом и простонародным бытовым оттенком.
В тот же день, когда она была в музее и делала копию с картины Веласкеса, произошло знаменательное событие; однако из-за ее небрежности или малоосведомленности оно не имело никаких последствий.
К ней подошли двое пожилых людей. Она была одета скромно, в черном и в мантилье, как все здешние женщины и видимо, поэтому, подошедшие господа засомневались.
— Вы ли m-lle Bashkirtseff? — поинтересовались они у художницы и, получив утвердительный ответ, представились. Один из них оказался богатым русским негоциантом Козьмой Терентьевичем Солдатёнковым, другой его секретарем и компаньоном по путешествию.
Козьма Терентьевич спросил Башкирцеву, продает ли она свои картины? Она имела глупость сказать, что нет.
Солдатёнков был крупнейшим русским книгоиздателем и владельцем картинной галереи, где были собраны картины русских художников, которые после его смерти в 1901 году по его завещанию были вместе с личной библиотекой переданы в Румянцевский музей. После революции его обширная коллекция русской живописи была распределена между Третьяковской галереей и Русским музеем, а также частично переданы и в другие музеи. В его коллекции были «Вирсавия» К. Брюллова, «Вдовушка» П. Федотова, «Проводы покойника» и «Чаепитие в Мытищах» В. Перова.
Вероятно, Башкирцева не знала, кто такой Солдатёнков, или просто растерялась, но так или иначе, ее работы не попали в его собрание. Однако, сам факт такого обращения известного мецената, собирателя русской живописи, свидетельствует о том, что долгожданная слава Марии Башкирцевой уже начиналась. В самом деле, слышать про юную художницу, случайно узнать, что она работает в музее и подойти с предложением купить работы — это ли не начало славы, которой она так вожделела?
Одно из писем своему другу, учителю и конфиденту Жулиану Башкирцева озаглавливает «Живописное путешествие по Испании мадемуазель Андрей». О если бы она путешествовала одна, а не с тетей и мамой, которым совершенно наплевать на музеи, на искусство, на великих художников, их заботит только ее здоровье, хотя и ее будущая слава тоже прельщает. Но сколь тернист и труден путь к этой славе они даже не представляют. Сама она уже хорошо это понимает. Впрочем, совместная поездка, едва начавшись, заканчивается: вскоре их догоняет депеша от отца и старшая Башкирцева их покидает, срочно выезжая в Россию, где возобновлен вялотекущий процесс о наследстве господина Романова; видно, что не все документы Бабанины выманили у судьи, что-то осталось. И претенденты на наследство, родственники Романова, делают свой ход.
Читать дальше