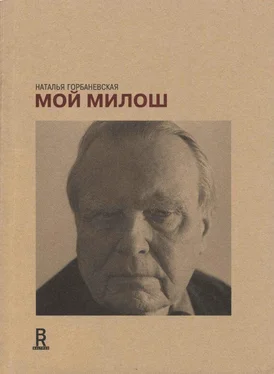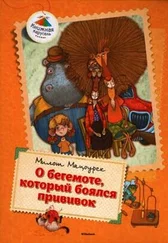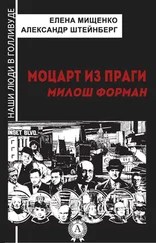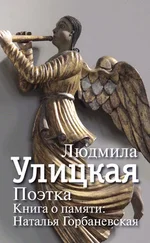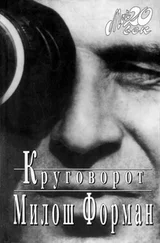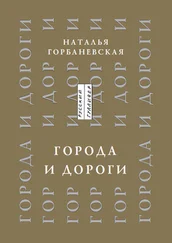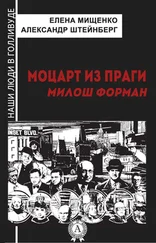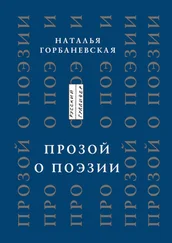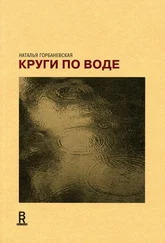Хорошо соревноваться переводчикам на одних и тех же стихах, когда поэт по-русски уже всерьез существует. Увы, осмелюсь сказать, что Милош по-русски существует только в самом первом приближении. Кроме того его надо было бы переводить не отдельными стихами, не подборками разных лет, а книгами; в большинстве его сборников верлибры перемежаются белыми и «почти белыми» стихами, чистой прозой и тем, что можно было бы назвать стихотворениями в прозе (если бы этот термин не был напрочь скомпрометирован Тургеневым), переводами иноязычных (англо-американских, ближне– и дальневосточных) стихов, выписками из исторических документов Великого Княжества Литовского и т. п. Пока что целиком переведена лишь одна книга, из недавних, – «Придорожная собачонка», и то, как я заметила, русские рецензенты (кроме Ксении Старосельской) с ней не разобрались, считая, что все, напечатанное в ней не в столбик, – это «эссе».
Милош много писал в последние годы – и на девятом, и на десятом десятке лет. 14 августа подвело черту под его творчеством. Русским издателям и переводчикам пора обратиться к нему пошире и поглубже – и к книгам его стихов, от первых до последних, и к книгам его эссе (которые опять-таки собираются в книгу не случайно, а по-русски пока существуют лишь в распыленном виде), и к его замечательной повести о детстве среди дикой литовской природы «Долина Иссы», и к тому, что написано о Милоше его соотечественниками [1] Это написано сразу после смерти Милоша. С тех пор, особенно за нынешний, Милошевский год, издано и переиздано немало. В частности, вышла «Родная Европа», готовится к выходу «Долина Иссы». Однако по-прежнему недостаточным остается переведенный корпус как стихов, так и публицистики Милоша. Надо надеяться, что страсть переводчиков и издателей не остынет в ближайшие, послеюбилейные годы. – НГ-2011.
. Может быть, тогда мы воистину оценим совсем особый дар Чеслава Милоша, его совсем особую погоню за реальностью.
«…в конечном счете я бы сказал, что цель, которую я преследую, – это реальность. Погоня за реальностью», – ответил Милош на вопрос Бродского, чего он стремится «достичь в поэзии, в литературном творчестве». Немодный ответ. Сегодня – особенно немодный. Но очень нужный – то есть очень нужно то, что за ним стоит, та реальность, за которой гонится, которую нагоняет Чеслав Милош в своих стихах, прозе, эссе и многочисленных промежуточных формах, выходящих за пределы собственно прозы и собственно стихов.
Тут самое место вернуться к поэтическим книгам Милоша. В свое время я писала о сочинении Милоша «Особая тетрадь: Звезда Полынь» («Культура», Париж, 1980, №11):
Трудно назвать это просто стихами – для этого у «Особой тетради» слишком сложная, смешанная форма. (Вспоминаются более ранние строки Милоша: «Вечно стремился я к форме более емкой, / что не была бы ни слишком поэзией, ни слишком прозой…») Но, несомненно, это сочинение поэта Милоша, а не прозаика или эссеиста. Предположительный генезис этого произведения (впрочем, рискуя ошибиться) можно вывести из того, что двумя номерами раньше в той же «Культуре» было напечатано стихотворение «Звезда Полынь». В новом тексте эти четыре четверостишия, рифмованные, почти классического склада, стали лишь завершающим ударным аккордом в стремительном, почти кинематографическом чередовании верлибров, белых стихов и кусков, написанных «просто прозой», нанизанных на вспоминание (не вос-) литовского детства и пронизанных видением судьбы человека на Земле, «крещенного на восходе Звезды Полынь» и с младенчества несущего непрошеный груз времени и безвременья.
Замечу, что составители содержания журнала «Континент» (№100, 1999), поставив после названия пометку «Эс.», то есть эссе, явно ошиблись в жанре.
Такая форма (или жанр) появляется у Милоша по крайней мере с 70-х, со сборника «Где восходит солнце и куда закатывается». Но рецензенты и критики очередных книг Чеслава Милоша как будто никак не могут к этому привыкнуть. Кого ни возьмешь – у каждого в тех или иных словах встретишь удивление: какая необычайная, ни на что не похожая книга! Да и верно: друг на друга они тоже непохожи, так что привыкнуть не удается. И кто ни примется за исследование поэтики Милоша, обязательно отметит, что поэт выходит за пределы стиха и прозы – или, в других терминах, стирает границу между ними. На примере публикуемых в этом номере журнала переводов из книги «Хроники» вы лишь отчасти, но все-таки увидите эту его особенность, точнее говоря особость.
Читать дальше