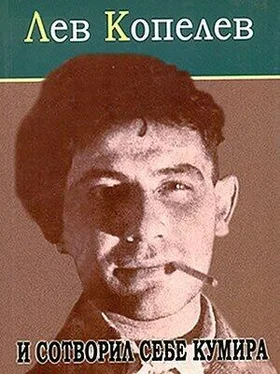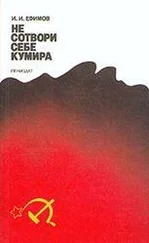Он спрашивал не слишком настойчиво, без подозрительного недоверия и «подлавливания». Отвечая, я говорил о Фриде, о Дусе, о Леве только хорошее. И старался говорить возможно более достоверно, убедительно. Напоминал о необычайной доброте Фрида, о его бескорыстии, скромности, о том, как он подбирал беспризорных детей; снова и снова повторял, что он — человек, не способный соврать, беспредельно искренний. Для вящей объективности несколько свысока говорил о его чудачествах, как он теряется в обществе женщин, не выносит матерной брани. О Дусе и Леве я сказал, что совершенно уверен: они — хорошие, честные парни, только политически неграмотные, интересуются главным образом футболом, девчатами, выпивкой. А Фрида они просто очень уважали, как старшего товарища и жалели, как доброго чудака.
Сначала мне даже показалось, что Александров слушает сочувственно. И я стал как бы подсказывать ему возможные защитные аргументы. Предложил, что сам все это напишу подробно. Он прервал резко:
— Этого еще недоставало: твоей писанины. Ты радуйся, что нам все доподлинно известно. И тебя не спрашивают. Дело на все сто процентов ясное. Не то, могли бы и еще кой-кого привлечь. А ты ведь с ними компанию водил. И ты же не только футболом интересуешься. Ты должен за собой особенно строго следить. Мы тебя знаем. Но университетские товарищи, видишь, как лихо распорядились. И это безо всякого конкретного дела. А ты сообразил, что может быть, если полезешь в адвокаты? Ты что, газет не читаешь? Совсем заучился?
…И я испугался. Начал «отстраняться» — сказал, что уже почти два года не встречался с ними, что единственная встреча за последние месяцы была, когда они рассказали мне о голодовке и я сразу же стал звонить ему. Говорил, что из-за напряженной учебы — я ведь перешел с первого курса сразу на третий, — и общественной работы, — я ведь почти что один делал еженедельную университетскую многотиражку, — и из-за болезней, я вообще отдалился от всех старых заводских товарищей… Все это тоже было правдой «в общем». Но я старательно подчеркивал выгодную для меня правду.
Александров, должно быть, услышал мой испуг.
— На тебя у нас компромата нет. Это я, как раз, точно знаю. Был разговор в связи с этим делом. Но ты имей ввиду: «кто прошлое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба долой!» Твое комсомольское дело сейчас пойдет в горком. Ты напиши им, чтобы запросили завод — организацию, которая тебя в комсомол принимала и на учебу послала. Я поговорю в парткоме, как член бюро. У нас без вины виноватых не должно быть. Это не по-советски. Но только ты сам будь аккуратней с разговорчиками. А то язык и дальше Киева довести может.
И я последовал его совету.
В горкоме комсомола мое дело не рассматривали, но завод запросили и потом все материалы передали в бюро обкома. Меня вызвали на заседание. Все было совсем по-иному, чем в райкоме. Неторопливо. Спокойно. Секретарь обкома Гриша Железный доложил коротко, что парткомитет и комитет комсомола паровозного завода «характеризуют положительно». Вот пишут «активно боролся на идеологическом фронте, также и с троцкизмом и с правым уклоном. Хорошо проявил себя в трудных условиях, в прорывах и на селе…»
Исключение отменили. Но вынесли мне выговор за притупление политической бдительности. Ведь мой двоюродный брат был арестован, а я, хотя раньше его знал, как троцкиста, проглядел его деятельность в последние годы.
Ректор, не напоминая о нашей первой встрече, отказался восстановить меня в университете. Сослался на выговор и на то, что не сдана сессия, которая проходила как раз в те дни, когда я был исключен.
Пришлось апеллировать в Наркомпрос Украины и для этого поехать в Киев.
До середины мая я жил в Киеве, то у родственников, то у друзей, дольше всего у Олеси С. Еще в школе Олесю, лихую спортсменку, прозвали «девка-бек». В нее попеременно были влюблены два моих друга, некоторое время и я. Ее отец Иван Федотович С. до революции был подпольщиком, политкаторжанином, в Гражданскую войну членом ревкома, армейским комиссаром. Потом бывал секретарем разных горкомов и окружкомов. В 1934 году стал Наркомсобес. Все друзья Олеси его почитали. Ко мне он всегда относился хорошо: ему нравилось, что я увлеченно изучал политграмоту, историю, старался побольше узнавать о событиях и людях революции и гражданской войны. И все это не для зачетов, а для себя. Я рассказал Ивану Федотовичу о своих злоключениях. Он задал несколько вопросов, поглаживая серо-седые запорожские усы — «подковой».
Читать дальше