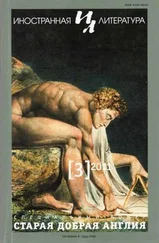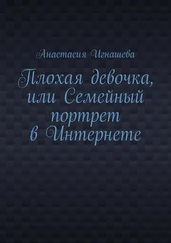1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Когда дедушка умер, мой папа хранил эти реликвии до отъезда в Израиль. Он был бы рад кому-то их передать, да не нашлось никого. В семье остался один человек – Алексей Бродский, коммунист и член партии, которому можно было поручить ценные вещи. Он был человеком ответственным и обязательным.
Будучи уже стариком, вместе с младшим сыном и внуками Алексей Бродский эмигрировал в Израиль. В СССР у него отобрали партийный билет, заклеймили изменником родины. Сначала он об этом сокрушался, всем нам жаловался, плакал, оскорблённый до глубины души, но не находил ни сочувствия, ни поддержки.
Со временем он зачастил в синагогу. Там он познакомился с себе подобными «изменниками родины». После утренней молитвы такие же бывшие коммунисты, к которым присоединились ветераны Второй мировой, шли в парк, захватив пару бутылок водки. Выпив по сто граммов, они ещё долго обсуждали политику, теперь уже израильскую. Потом расходились и сходились снова после полуденной сиесты – забить козла.
Папа не ошибся. Алексей Бродский перевёз старинные книги и свитки в Израиль, заплатив небольшую взятку советским таможенникам, и передал их в синагогу в Явне, в городе, где в конце первого столетия до нашей эры заседал главный Синедрион, имеющий прямое отношению к текстам этих священных писаний.
Алексея с сыном и внуками определили в Явне, дали им четырёхкомнатную квартиру. Всё вернулось на круги своя. Кстати, бывший коммунист Алексей Бродский читал Ветхий Завет, что-то понимал и переводил его своим новым друзьям. Он быстро заговорил на иврите, правда, с ошибками, произнося «с» вместо «т», как ошибочно произносили эти звуки евреи Восточной Европы. А внуки смеялись над ним.
* * *
Нэп подошёл к концу. Началось раскулачивание. Я не знаю, какие предчувствия побудили дедушку, но в 1928 году во время съезда комсомола он вышел на сцену и пожертвовал фабрику молодым коммунистам. На этом же съезде моя заносчивая бабушка Клара сняла с себя все драгоценности в пользу тех же коммунистов.
История про бриллианты неоднократно с большой гордостью пересказывалась бабушкой, как она медленно шла между рядами в платье из бледно-бирюзового крепдешина под звуки оркестра и бурных оваций сидящих в зале. Платье она сохранила и пронесла даже через эвакуацию. Иногда она доставала его из сундука, где хранились её наряды, и демонстрировала нам, двум девочкам, как она шла под туш оркестра.
Вряд ли ей было жалко драгоценностей. Ей было всё равно, что стекляшки, что бриллианты. Конечно, она понимала разницу в их стоимости. Но и бриллианты, и стекляшки в её понятии, никак не объясняющем её равнодушия к драгоценностям, были всего лишь блестящими побрякушками.
Как-то в статье психолога, доктора наук в своей области, я прочла, что украшения компенсируют женщине собственную неполноценность. Чувство неполноценности моей бабушке было чуждо.
После того злополучного съезда комсомола, когда дедушка добровольно отдал фабрику государству, его оставили работать там же в должности директора. Так же и дом, с ней соседствующий, остался в его распоряжении. Дом был частной собственностью, и дома не забирали. Его построил ещё прадедушка. Дом был огромный. Мы с сестрой по коридорам на велосипедах катались.
* * *
От калитки до парадного входа стелилась тридцатиметровая вымощенная кирпичом дорожка. С обеих сторон густо цвели ирисы. Их аромат сопровождал идущего в дом, вызывая в нём головокружение, словно воздух, спрыснутый духами.
Под окнами дома с южной и восточной стороны росли кусты сирени.
Георгины, лилии, пионы, герберы, тюльпаны, хаотически смешанные, густо посаженные, в стиле поля садовых цветов, чего добивалась моя мама, не терпевшая геометрическую точность и порядок французских садов, которые видела на картинках у профессора Мигдаля. Кустарники, подстриженные во все стороны на девяносто градусов, настолько противоречили законам природы, что доставляли ей физическое неудобство. Вместе с облезшими газонами они не соответствовали маминым понятиям эстетики. Свой цветник она отказывалась так называть. У неё цвело «поле» садовых цветов. Ароматы этого «поля» проникали в дом и открытые окна швейной фабрики, отвлекая швей от их однообразной работы, после которой они приходили к маме выпрашивать саженцы. Разбросанные как попало семена настурции прорастали безо всякого порядка, сплетая каллы, лилии, левкои и петунии в некую фантасмагорию, загадочную, как плодоносная земля, как мир, как жизнь.
Читать дальше