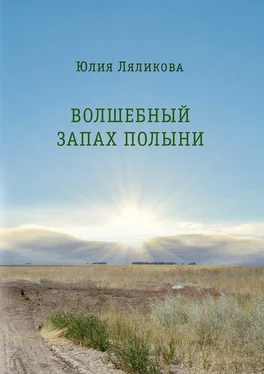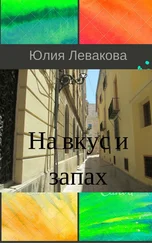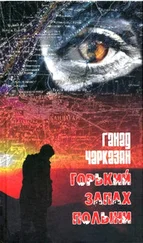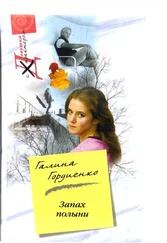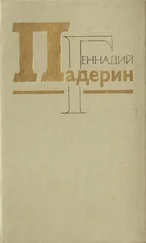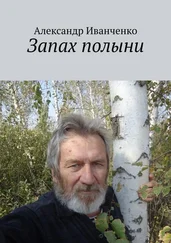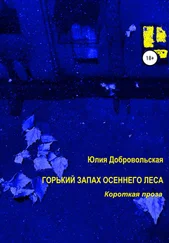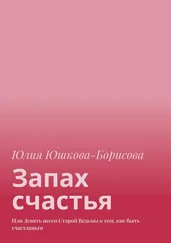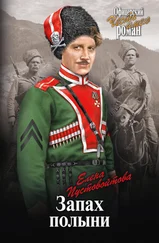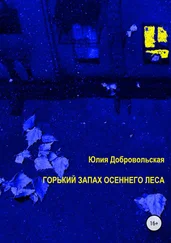Слово «родина» отпечаталось в моей голове с юных пионерских лет в виде стихотворных и песенных строчек как нечто обязательно великое, величавое, необъятное и даже грозное… Помните? «Величава, неприступна… Родина моя», «Но сурово брови мы насупим…». Так с насупленными бровями и живет моя большая родина. Все врагов выискивает-высматривает.
Термин «малая родина», получивший широкое хождение в последние годы, у меня тоже вызывает вопросы и смутные сомнения, но все же мне легче ассоциировать это понятие с моей реальной – не великой, а тем более не величавой, но бесконечно любимой родиной… И я решила сосредоточиться на описании именно того кусочка земного шара, который мне знаком с первых дней моей жизни, исхоженный вдоль и поперек, по кривой и косой за первые двадцать лет моей жизни, прошедшие там, на родине моей, частью которой я сама себя пожизненно ощущаю.
Однако дело в самом начале застопорилось на внятном описании места, где этот кусочек Земли разместился. Предполагая, что потенциальный читатель может оказаться родом из других краев, захотелось описать наши места так, чтобы, к примеру, и африканец при желании мог представить их хотя бы в общих чертах, каковы их приметы и особенности, чем можно зацепить читателя, чтобы уже на третьей строчке чтение не было прекращено.
Начнем со всем известного: во-первых, это Северный Кавказ, юг России, между северными овалами Черного и Каспийского морей, немного ближе к Каспию. Это если крупными мазками.
Теперь поподробнее. Хотя наши места и относятся к Северному Кавказу, но к собственно Кавказу, ассоциирующемуся с высокими крутыми горами, быстрыми хрустальными реками и величественными лесами, имеют слабое отношение. Правда, в ясную погоду на закате можно увидеть сверкающую белизной, удивительную, кажущуюся сказочной, плывущую в небе цепь Кавказского хребта и – о, чудо! – венчающий ее Эльбрус! Там, в той горной стране, наверняка все прекрасно, волшебно, сказочно. Глядя на эту картину, можно было мечтать о далеких прекрасных странах, о красивой интересной жизни, да мало ли о чем. «Юля, хватит мечтать о небесных кренделях», – прерывает мою сказку мама. Надо делать домашние задания. Этот сказочный пейзаж, видный из наших плоских мест в хорошую погоду, особенно в предвечерние часы, тоже был частью моей родины.
У нас в Прикумье в основном почти плоские, переходящие в полупустынные прикаспийские низменности, безлесные степи, ровные, продуваемые жесткими, летними, несущими пыль ветрами, песок со стороны Калмыкии. Весенние и летние пыльные бури несли беды сельскому хозяйству и неприятности жителям-степнякам. У ветров были собственные имена: «астраханец», понятно, дующий с февраля по апрель со стороны Астрахани, и «сурб-саркис», тоже зимний (конец января – февраль), получивший имя армянского святого по дате его чествования. Не исключаю, что оба эти ветра – один и тот же или близнецы-братья, герои мифологии двух этнических групп населения – армян и славян. Больша́я часть территории наших степей носит название Черные земли. Оно как нельзя точно характеризует эти места. Страшные рассказы циркулировали у нас о гибнущих в зимние метели путниках, чабанах. Оттуда на грузовиках вывозили замерзших овец, лошадей сотнями тысяч. Песня «Степь да степь кругом…» – это о реалиях степной жизни, не зря она трогала до слез и бывала обязательной в репертуаре домашнего песнопения, традиция которого умерла в 60-е годы ХХ века. Вот такие «веселые» места и приютили мою неуютную, но бесконечно милую моему сердцу родину. У нас нет прекрасных лесов, чистых ласковых рек, величественных гор. Казалось, что здесь всегда было пыльно, жарко или очень холодно, что знойные или ледяные ветры всегда хозяйничали, не встречая препятствий. Зябко или знойно, скучно было, есть и так будет всегда. Ну что тут напишешь интересного!
Но однообразие описанных картин наших мест было неожиданно нарушено. В один из моих ностальгических приездов в Буденновск я поделилась с Галей Король-Мельниченко (теперь Фроловой), моей одноклассницей и соседкой по квартире на улице Садовой, 60, о своих планах написать свои воспоминания о нашей жизни и наших местах. Она с пониманием приняла мои слова и со свойственной ей деловитостью посоветовала мне обязательно найти книгу Рубена Емельяновича Аджимамедова «Страницы истории Прикумья с древнейших времен». Вернувшись в Ставрополь, я разыскала в краевой библиотеке книгу (это был единственный, дарственный, экземпляр), изданную, судя по всему, за собственные средства автора тиражом 3000 экземпляров, напечатанную Буденновской типографией в 1992 году. Книга небольшая, всего 172 страницы.
Читать дальше