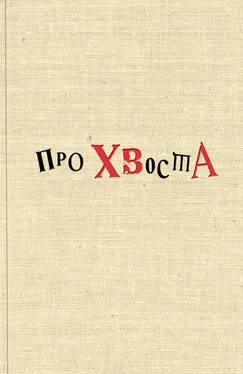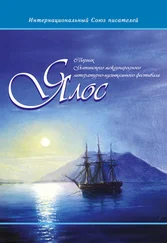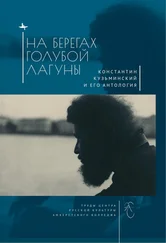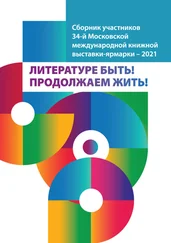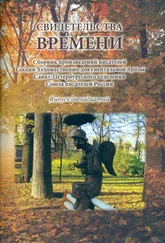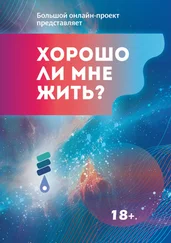В 1967 году Анри по долгу службы оказался в Псковской области, на озере Врево, и жил на берегу этого озера в деревне Большой Брод. Алеша приехал туда и провел с ним два месяца. Тогда были написаны «Прощальная» («Русская народная песня про субботу»), «Две песни шарманщика» (для пьесы «Запасной выход», написанной ими тогда же), «Частушки» (впоследствии собранные лингвистами как народные), великолепный «Потоп», «Птицы», «Солдат». О процессе написания рассказывают сами авторы в «Берлоге пчел»:
«В деревне Большой Брод А.Х.В. провели целое лето. Мы часто плавали на лодке по озеру. А.В. набирал воду в бутылки, А.Х. греб. На суше и на озере сочинительства не прекращали. Написали две пьесы: «Запасной выход» и «Остров лжецов», книгу басен и несколько песен».
Одна из написанных тогда пьес, «Запасной выход», была одиннадцать лет спустя переведена на английский язык нашим общим американским другом Биллом Чалсмой и поставлена в маленьком театре города Нортхэмптон, штата Массачусетс.
Пьеса эта представляет собой нечто среднее между сказкой, притчей и музыкальной комедией. Три сына посланы в мир не появляющимся, но незримо присутствующим в пьесе Отцом. Отец дает им прощальное напутствие, о котором они благополучно забывают. Сыновья увлеченно заняты – каждый своим делом. Старший – ученый, физик-математик, – создает умную электронную машину с искусственным интеллектом. Средний – выращивает в каком-то агрегате вроде большой стиральной машины искусственного человека-гомункула. Младший сын – ну, известно, что такое, – интеллигент, литератор, поклонник искусства. Его интерес символизируется в пьесе огромным бюстом египетской фараонши Нефертити. Появляется пожарник, что-то вроде подвыпившего ангела, который пытается напомнить молодым людям, зачем они живут на свете. Его напоминания безуспешны. Тогда в жизнь братьев приходит – тоже посланная Отцом – красивая девушка Анна, олицетворяющая Любовь. Братья влюбляются, теряют голову, бросают свои занятия и уходят вслед за Анной со сцены и из пьесы. Оставшись без своих творцов, машина и гомункул пытаются существовать сами по себе, но вокруг них быстро образуется хаос. И кончается все веселым апокалиптическим пожаром с песнями и плясками.
Алеша тогда только что эмигрировал и приехал в Нортхэмптон помогать ставить пьесу. Он же играл в ней роль пожарника, пока не сломал ногу, свалившись с какого-то помоста. Пьесой заинтересовалась местная пресса и прислала представителя правозащитной организации «Эмнести Интернэйшенл» брать у Хвоста интервью. Меня попросили помогать переводить, хотя Алеша и сам бы справился.
Представитель прессы на спектакль опоздал и пьесы не видел. Алеша решил над ним подшутить. Этот журналист все хотел от Алеши политических деклараций, а в ответ получал комментарий о духовном содержании пьесы. Наконец, он прямо задал вопрос: каково же идеологическое содержание пьесы? «Никакого идеологического содержания нет, – сказал Алеша немного застенчиво. – Речь идет о тщетности человеческих ценностей, когда люди забывают об их божественном происхождении». «Что же это за ценности?» – неуверенно вопросил журналист. «Свобода, равенство и братство», – с доброжелательной улыбкой отвечал Алеша. В ответ на ошеломленный взгляд правозащитника я кивнула, дескать, да-да, вы не ослышались.
В статье, появившейся через несколько дней в местной газете, говорилось, что авторы пьесы «провозглашают и утверждают гуманистические ценности и своим творчеством борются за свободу, равенство и братство во всем мире».
Возвращаюсь в деревню Большой Брод.
В то лето и я провела неделю там в гостях. Часто, пока Анри был занят, Алеша удил рыбу. (Это времяпрепровождение воспето в «Частушках»: «Ловили рыбу// Словили по рылу». И там же дальше: «Ловили лосося// Поймали пол-литра»). Он часами мог сидеть неподвижно, глядя на поплавок. Когда приходило время сматывать удочки, Алеша выбрасывал в воду оставшихся червяков, приговаривая: «Это жертва озерному богу». Говоря о бутылках: когда не было других гостей, пили мы в деревне исключительно парное молоко или чай.
И тут – уж не знаю, кстати или нет, – скажу о пьянстве. Его преследовали власти, милиция, соседи по квартире. Говорили: бездельник, тунеядец, пьяница. Все вздор: ни тунеядцем, ни бездельником Алеша не был. Он всегда был занят: рисовал, мастерил, читал, писал, сочинял. В нем шла непрерывная творческая работа. Всегда, почти что до самого конца. Когда приносили выпивку – пил. Он плыл по течению жизни и принимал все происходящее с доброжелательной улыбкой. Никакие ярлыки к нему не подходили.
Читать дальше