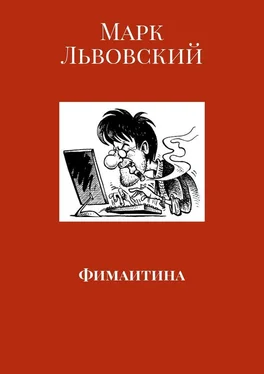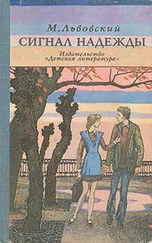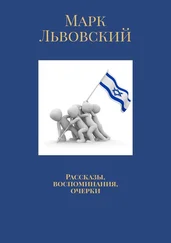1 ...8 9 10 12 13 14 ...30 Скоро Фиму вызвали, пригрозили, выдали бывшую у него до ареста мелочь, часы и ключи, и он, стыдясь своего немытого тела, головы, полной перхоти, грязных ногтей, наверняка скверного запаха изо рта, попал в объятия счастливой Тины и ждавших его друзей.
И с этого дня у Фимы начались видения. Короткие, но почти осязаемые. Так, перед ним мог появиться «вертухай», сказать ему какую-нибудь несуразицу, подмигнуть и исчезнуть. Или следователь, год тому назад допрашивавший его и пригрозивший большими неприятностями. Он тоже подмигивал, грозил ему пальцем и исчезал. И так далее. Тине Фима об этом не рассказывал, будучи уверенным, что скоро всё пройдёт. Не проходило. И стали сниться скверные сны – бессодержательные, но злые, всегда в них что-то горело, кто-то он убегал в страшной тревоге, а однажды его «переехал» поезд, причем, ночью, и он, «перееханный», с ужасом наблюдал за исчезающим в ночи красным огоньком последнего вагона. Проснулся в поту, захотелось разбудить Тину, но она так сладко посапывала, что он сдержался, бесшумно слез с кровати, выпил воды, пописал, снова залез в кровать, с великой осторожностью прижался по счастью вечером выбритой щекой к плечу жены и, почти счастливый, заснул.
Часто снились ему шахматисты, супруги Боря и Аня Гулько, демонстрацию которых с последующим избиением их, он через несколько дней после отсидки наблюдал с близкого расстояния. От жалости к тоненькой Ане Гулько он чуть не заплакал и едва не потерял сознание от вспыхнувшей в нём ненависти к этой стране.
А несколько дней назад… Он спешил в магазин, и вдруг на узком тротуаре, по правую от него сторону «пристроился» тот самый тип в штатском, который руководил разгоном демонстрации и посадкой демонстрантов в автобус.
– Фима, не спешите, мне надо поговорить с вами! – проговорил, чуть задыхаясь, чекист.
– Вы должны вызвать меня повесткой… – начал Фима заученную фразу.
– Это разговор неофициальный, дружеский…
Фима ускорил шаг. Тот не отставал. Фима припустился лёгкой трусцой – гебешник не отставал. Тогда Фима ещё более ускорил темп бега и взял чуть правее, в расчёте на то, что этот тип, коль скоро он не отстаёт, непременно треснется о толстенный тополь, стоявший на краю тротуара. Ещё быстрее! Баххх! Фиме даже показалось, что старый тополь качнулся от мощного удара. Правда, треска разбитого лба Фима не услышал, что очень огорчило его. Но Фима остался один! Он перешёл на шаг, и никого рядом не было! Он подпрыгнул от радости, возгордился своей сообразительностью и понял, что отныне сможет бороться самостоятельно с этими проклятыми привидениями. Гордости его не было предела. Он шёл и пел.
А через несколько дней после этой «победы» случилось вот что… В субботу, как обычно, Фима к двенадцати часам (на этот раз без Тины) пошёл к синагоге. Потрепавшись со знакомыми, Фима заметил, что один из «великих» отказников, Юлий Кошаровский, ничуть не стесняясь стоящих на противоположной стороне улицы Архипова гебешников, обходит старых «отказников» с письмом. Каждому потенциальному подписанту он давал прочесть письмо и, получив согласие на подпись, удобно располагал перед ним свой портфель. Письмо, по-видимому, было коротким, так как ни у одного подписанта он не задерживался дольше минуты. Когда он оказался в непосредственной близости от Фимы, тот вплотную подошёл к нему и сказал, что тоже хочет прочесть и подписать письмо. Ответ был ошеломляющим:
– Фима, я не думаю, что тебе это нужно. Это только для крутых «отказников»…
Фима потерял дар речи. И надолго. Чтобы прийти в себя, он стал обходить кипучие группки евреев, но не слышал ничего, кроме звенящего в голове «Это только для крутых «отказников». Покрутившись, предполагая помутневшей головой, что все с насмешкой взирают на него, Фима вдруг обнаружил, что находится перед входом в синагогу. Он поднялся по нескольким каменным ступеням, ведущим в молельный зал, откуда раздавался негромкий, монотонный гул молящихся. Взяв со столика, расположенного у входа, кипу, нашёл самое неприметное, с краю, место на тяжёлой, отполированной скамье, опустился на неё и задумался.
«…Я – везде, но везде ничего не значу… За 12 лет «отказа» я не родил ни одной идеи, не высказал ни одного дельного предложения. 12 лет меня знают только по стишкам «по случаю»… Ко всему я – трус. Я имею полное право сказать такое о себе. Да, я участвовал в демонстрациях. Но только в толпе. В толпе мне не страшно. В толпе меня охватывает торжество победы над самим собой. Я растворяюсь в толпе. В веществе толпы я исполняю роль молекулы. Я никогда не выходил на демонстрации в одиночестве, вдвоём, втроём, даже впятером. Только в толпе. Я подписал множество писем, где стояла толпа подписей. Почему же я обиделся? За какие такие подвиги моё имя должно прозвучать на «Голосе Америки», Би-Би-Си, «Немецкой волне»? Кошаровский неимоверно жесток, но прав! Не дают орденов за длинную жизнь, дают – за подвижническую. Но, с другой стороны, какое имеет значение ещё одна подпись? Наверное, это элитарное письмо… Письмо героев, в котором мне нечего делать… Что происходит со мной? Да мало ли писем ушло без моей подписи? Меня когда-нибудь искали для подписи? И я обижался? С другой стороны, сказали бы мне такие слова Володя Престин или Паша Абрамович? Нет, никогда, хотя кому, как не им, знать моё место в «отказе»… Пойти бы сейчас к ним, поплакаться, пожаловаться.
Читать дальше