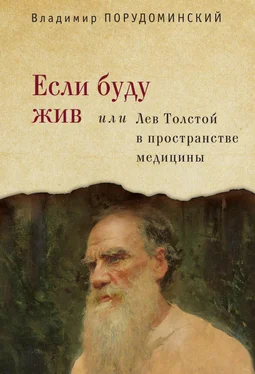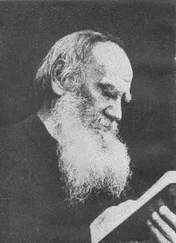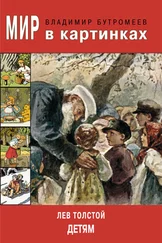1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 «Самое сильное впечатление моей жизни», – заносит Толстой в дневник: «Страшно оторвало меня от жизни это событие». Здесь не только сознание и скорбь потери. Еще и потрясение от впервые пережитого близкого и откровенного созерцания смерти. «Правду он <���Николенька> говорил, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет».
Толстой ищет, откуда почерпнуть силу, где найти основание жить дальше. «Одно средство жить – работать. Чтобы работать, надо любить работу». Он усаживает себя за стол, пробует писать. Без охоты дело идет туго, медленно. И вдруг – месяца через два – будто чудо какое-то: тоска, мысли о смерти, сомнения в смысле жизни – всё сметается вулканическим выбросом подспудно накопившейся творческой энергии: «Лет десять не было у меня такого богатства образов и мыслей, как эти три дня. Не пишу от изобилия».
Полутора десятилетиями позже в «Анне Карениной» Толстой отзовется на пережитое – расскажет о смерти брата Левина, тоже Николая. Перед нами ощутимо во всякой подробности разворачиваются последние дни и часы умирающего, как они воспринимаются им самим и каждым из тех, кто его окружает. Все главы в романе помечены римскими цифрами, лишь одна-единственная глава о кончине Николая Левина – неслучайно, конечно, – имеет название: «Смерть». И также неслучайно, конечно, глава, носящая название «Смерть», заканчивается благой вестью: внезапное нездоровье Кити, вместе с мужем ухаживавшей за умиравшим, оказывается беременностью. «Не успела на его глазах совершиться одна тайна смерти, оставшаяся неразгаданной, как возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая к любви и жизни», – говорится о Левине.
До этого в «Войне и мире» – та же мысль о двух тайнах, не высказанная в слове, но воплощенная в образах. Маленькая княгиня оплачивает жизнью рождение сына. Князь Андрей из-за двери слышит один за другим два крика – последний крик жены и первый крик ребенка. «Через три дня отпевали маленькую княгиню, и, прощаясь с нею, князь Андрей взошел на ступени гроба… Еще через пять дней крестили молодого князя Николая Андреича… Князь Андрей, замирая от страха, чтоб не утопили ребенка, сидел в другой комнате, ожидая окончания таинства. Он радостно взглянул на ребенка, когда ему вынесла его нянюшка»…
Рождение Маши
Люди, хорошо знавшие Толстого, замечают сходство между ним и Левиным, героем «Анны Карениной» (в кругу близких писателя произносят «Лёвин» – от «Лёв Николаевич», как именуют его самого домашние, друзья). «Лёвочка, ты – Левин, но плюс талант», – шутит Софья Андреевна. Ей вторит Фет, уже серьезно: «Левин – это Лев Николаевич (не поэт)».
Но различие между тем, как спасается от мысли об «ужасном обмане» жизни перед лицом смерти Лев Николаевич и как это происходит с Левиным, не в одном поэтическом таланте первого. Различие еще и в том, что смерть Николая Толстого отделяют от смерти Николая Левина годы, на протяжении которых автор романа встретился не только с неразгаданной тайной смерти, но и со столь же неразгаданной тайной рождения, зовущей жить и любить жизнь. За эти годы Толстой становится семьянином – мужем и отцом. Когда «Анна Каренина», по слову писателя, «завязывается» в его воображении, у Толстых рождается пятый ребенок – дочь Мария, Маша.
Софья Андреевна будет вспоминать в «Моей жизни»:
«На другой день после родов у меня сделался сильнейший озноб и мне положили на ноги горячие бутылки. Плохо закупоренная одна бутылка вся пролилась, и от сырости, пока сменили белье и постель, я еще больше озябла. Вскоре открылся сильнейший жар и сделалась родильная горячка, продолжавшаяся месяц… Горячка была сильная, только мой здоровый организм мог вынести такую болезнь. Она была тогда эпидемична, и многие роженицы умерли от нее.
Помню смутно присутствие тетенек, моего дяди Константина Александровича Иславина и Дмитрия Алексеевича Дьякова <���друг Толстого>. Все ждали моей смерти, и я в полусознании слышала, как дядя Костя, думая, что я без сознания и ничего не слышу, сказал: «Она наверное умрет».
Еще помню, как Дьяков взял мою руку и стал считать пульс. «Левочка, сорок четыре», – сказал он. Л.Н. вскочил и вскрикнул: «Не может быть!» Когда он сам счел, он взял вино, рейнвейн, налил в рюмочку и поднес мне. Я испытывала такое блаженное чувство тишины, слабости и отсутствия всяких физических или моральных ощущений, что просила мужа оставить меня в покое и не давать мне ничего. Я говорила: «Мне так хорошо! так тихо, хорошо!»
Читать дальше