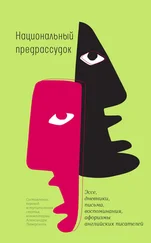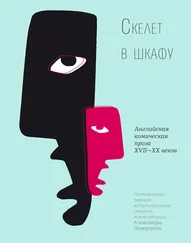Сам читал жадно и неимоверно много, однако читателям «Книг в моей жизни» советовал: «Читайте как можно меньше — отнюдь не как можно больше» [4] «Книги в моей жизни» здесь и далее цитируются в переводе Е. Мурашкинцевой.
. Писательское дело находил ничтожным: «Туалетная бумага в общественной уборной стоит большего, чем тысяча Вергилиев». Всем объяснял, что пишет жизнь, а не литературу, и не чью-то чужую жизнь, а свою собственную. В письме Кэтрин Уайт, супруге главного редактора «Нью-Йоркера», Вера Набокова с грустью писала, что широкий читатель имеет печальную склонность отождествлять вымышленное «я» повествователя с самим автором. Миллер же не раз повторял: «Я одно целое с протагонистом этих автобиографических романов, в качестве темы я избрал историю собственной жизни». Автобиографический же роман определял как «не смесь истины и вымысла, но расширение и углубление истины». И сам себе противоречил. «Истина, — заметил однажды, — более удивительна, чем вымысел, поскольку реальность предшествует воображению и включает его в себя». Читаем, одновременно с этим, и такое признание: «Меня занимает не реальность, а то, что в моем воображении… Я всегда мечтал вовсе даже не жить, а выразить себя». Причем выразить себя не так, как выражали до сих пор, отталкиваться не от традиции («есть что-то непристойное в этом почитании прошлого»), а от себя самого, «полномочного представителя царства свободного духа». Миллер называл это «сотрудничеством с самим собой». Стремился, как любой авангардист, «отойти от золотого стандарта литературы». Ценил, говоря словами Мандельштама, «в ремесле словесном… дикое мясо… сумасшедший нарост».
Так родилась исповедальная проза Генри Миллера, для которого слова «исповедь», «исповедальный» всегда были значимы: «На протяжении всей моей жизни слово „исповедь“… всегда притягивала меня как магнит». Исповедальный характер творчества притягивал Миллера к таким авторам, как Гамсун, Жан Жионо, Селин и особенно Артюр Рембо. Переводами, тем более поэтическими, никогда не занимался, однако однажды попытался (без особого успеха) перевести «Сезон в аду», посвятил Рембо одну из самых ярких, выстраданных своих книг — «Время убийц». «Нам обоим свойственна исповедальность, мы оба превыше всего поглощены моральными и духовными исканиями», — напишет Миллер во «Времени убийц» [5] «Время убийц» здесь и далее цитируется в переводе И. Стам.
. Да, Миллер был истинным моралистом, своей главной темой и целью считавшим «борьбу человеческого существа за свою независимость». А также — преодоление запретов цивилизованного общества (в системе ценностей Миллера слово «цивилизованный» — ругательное). Многие же видели в нем никак не моралиста, но маргинала, похабника и скандалиста, чья личность с понятиями нравственности несовместима.
Так родился типично миллеровский свободный жанр, который Миллер и его критики будут сравнивать с потоком. Миллер назовет свой спонтанный метод «потоком человеческой жизни», «чувством принадлежности живому потоку бытия». А русский критик-эмигрант Георгий Адамович — «бесконечным, непрерывным потоком воспоминаний, замечаний, мыслей, сцен, образов». Потоком, в ассоциативном монтаже которого бесследно растворяются и композиция, и сюжет, и характеры, и стиль. Автобиографией этот неудержимый поток сознания, это «путешествие внутрь себя» можно, однако, назвать лишь с некоторой натяжкой. Проследить жизненный и творческий путь Миллера по «Тропику Рака», «Черной весне», «Тропику Козерога», хотя в них и запечатлены события его жизни, довольно рискованно: путешествие это всегда приправлено вымыслом, необузданной авторской фантазией, философскими и лирическими отступлениями: «Запишу все, что придет мне в голову… что было опущено в других книгах».
Приправлено вымыслом, фантазией, а еще безоглядным самоутверждением и, как сказали бы в советские времена, «крайним субъективизмом и волюнтаризмом». И как всякий «волюнтарист», Миллер, описывая реальные события, теряет чувство реальности, уговаривает себя и читателя, что ему всё доступно, что он всё может. И не станет с читателем считаться, под него подлаживаться: «Не хочу приглаживать свои мысли или свои поступки». Причем «всё может» не в благополучные, «тихие» времена, а в преддверии хаоса, мировой катастрофы, словно придающей ему сил и в то же время ему будто бы безразличной: «Плевать, валится ли мир к свиньям собачьим или нет». Тема «чем хуже, тем лучше» в книгах Миллера вообще одна из самых внятных, заметных. «Я ослеплен величественным концом мира!» — восклицает он в «Черной весне» [6] Роман «Черная весна» здесь и далее цитируется в переводе М. Салганик.
. «Несчастье, тоска, грусть… производят на меня бодрящее впечатление» («Тропик Рака»), И даже приносят облегчение: «Вдохновленный пониманием всей безнадежности человеческого существования, я почувствовал облегчение, точно с меня свалилось огромное бремя».
Читать дальше
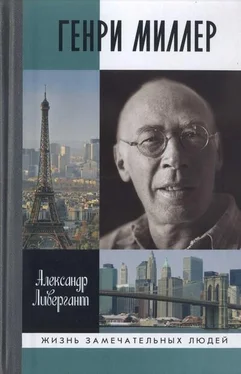

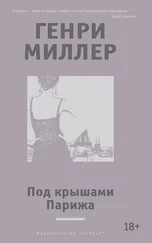
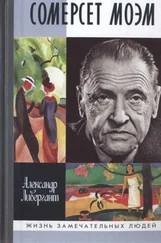
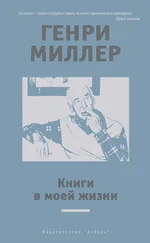
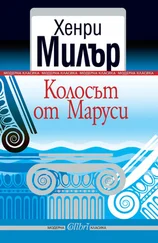

![Генри Миллер - Мудрость сердца [сборник]](/books/423531/genri-miller-mudrost-serdca-sbornik-thumb.webp)
![Генри Миллер - Замри, как колибри [сборник]](/books/423532/genri-miller-zamri-kak-kolibri-sbornik-thumb.webp)