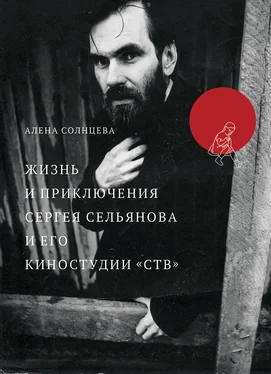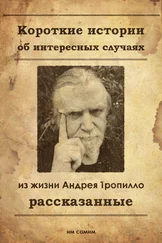Альтернативное официальному искусство становилось панацеей от идеологизированной действительности. Квартирные выставки художников Второго русского Авангарда, первые акции и перфомансы, подпольные чтения стихов или столь же подпольное изучение философских трактатов, психоаналитических учебников или исторических трактатов – создавали особую среду избранных. Во ВГИКе все это находило свои отголоски.
«В то время уже определилось, что есть официальное искусство, социалистическое – и оно лицемерный фальшак, симулякр, а есть настоящее, – рассказывает Сельянов. – То, что делают такие люди, как Ерема [7] Александр Еременко, поэт.
, как Тарковский, как художники, которые участвовали в бульдозерной выставке, – считалось за настоящее, оно и составляло питательную среду, и не столько сами люди, сколько именно творчество. Какое мне дело, что ты собой представляешь, если ты слабый режиссер или плохой писатель. Ты можешь быть замечательным человеком, но это не имеет значения, важно только то, что ты можешь предъявить как художник – и именно в области „настоящего“. Тогда этому придавали куда большее значение, чем сегодня, статустность, если это слово уместно, определялась только тем, что ты выдал в области этого „настоящего“, в творчестве, в искусстве и в жизни, для нас тогда это не разделялось».
«Во ВГИКе только один или два человека с курса через какое-то время начинали работать в большом кино, а иногда и ни одного, статистика эта была железная, неизменная», – вспоминает Сельянов.
Все пять лет Сельянов просидел за одной партой с Юрием Арабовым, ныне руководителем кафедры кинодраматургии, Каннским лауреатом, автором множества известных фильмов, поэтом и прозаиком. «Он был примерно на год меня старше, и мы не то чтобы дружили, но была близость творческая, т. е. у нас были общие взгляды на искусство, а это тогда казалось главным. У него уже было несколько сценариев, один из них по роману „Обломов“, который носил в разные места, в том числе и на „Мосфильм“. Юра придумал концепцию про хорошего Обломова и плохого Штольца, и это на нас произвело тогда сильное впечатление».
«Если говорить о дружбе, то дружеские отношения у нас были с Мишей Коновальчуком [8] Сергей Сельянов снял как режиссер три фильма, и все три – по произведениям Коновальчука.
. Миша был старше меня лет на пять, он был на курсе самый живой, яркий, очень креативный, что проявлялось в самых разных сферах. Очень любил розыгрыши, придумывал их с удовольствием, простые и сложные. До ВГИКа Миша успел отслужить в армии, во флоте, был старшина первой статьи, как он до сих пор представляется, его несколько раз разжаловали, сажали на губу, у него куча рассказов устных и письменных про всю эту флотскую действительность».
Коновальчук вместе со своим школьным дружком Александром Еременко, впоследствии известным поэтом-метаметафористом, окончил школу в городке Заринске, что на Алтае, где от их жизнерадостных шалостей лихорадило всех, от родителей до директора. В институты они не поступили, зато, начитавшись Джека Лондона, полное собрание сочинений которого нашли в библиотеке поселка, отправились мыть золото. Но до приисков не добрались, осели на какой-то дальней стройке, потом поочередно отправились на флот, отслужили, а дальше Коновальчук, который был чуть старше, решил, что надо двигаться к Москве, потому что иначе жизнь засосет, среда заест. Поселился с женой Ольгой, которую вывез с Сахалина, в подмосковной Вязьме, вызвал туда Еременко, послал свои рассказы во ВГИК, а стихи Еремы – в Литинститут. Их приняли.
В Москве пошла дальнейшая интеграция. Константин Кедров, поэт, преподаватель Литинститута, создает подпольное поэтическое объединение, куда вошли, помимо Еременко, Алексей Парщиков, Иван Жданов. Кедров же придумал и термин «метаметафора», т. е. «метафора эпохи теории относительности Эйнштейна». Впрочем, все это сложилось позже, уже в начале 1980-х, но дело не в теории, стихи были необычными, новыми, они расходились в машинописных копиях, поскольку в официальных изданиях их не печатали.
Коновальчук писал не стихи, а рассказы, но, как вспоминает Сельянов, «когда он стал нам показывать свои писания, не сценарные, а литературные, тот же „День ангела“, который мы потом экранизировали, впечатление было очень ярким. Мы его называли русский Маркес, почти без иронии, а Маркес тогда был одним из ключевых имен в литературе».
Читать дальше