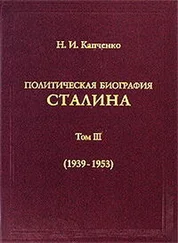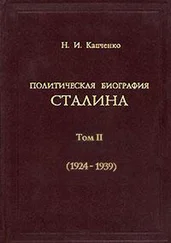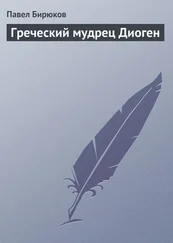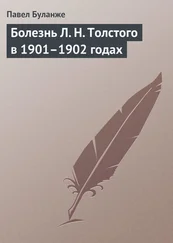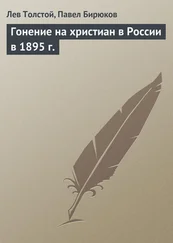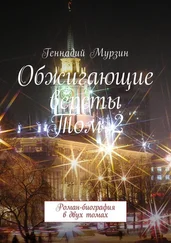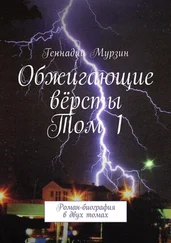Серьезную и проникновенную статью о «Воскресении» написал покойный А. Богданович в «Мире Божьем». Мы позволяем себе сделать из его статьи более обширные выписки:
«Прежде всего, – говорит критик, – невольное изумление охватывает читателя при виде этой неувядающей силы творчества, какую проявил великий писатель, семидесятилетие которого еще так недавно было отпраздновано литературой и в России, и за границей. Несмотря на очевидную порчу, которой, несомненно, подвергся роман в различных местах, и вся концепция его, и отдельные, удивительной красоты места вполне напоминают того Толстого, каким мы его знаем в «Войне и мире» или «Анне Карениной». Та же широта захвата жизни, легкость и естественная простота, с какими гениальный автор переносит нас из тюрьмы в зал суда, из суда в великосветское общество, из деревни в столицу, из приемной министра в камеру сибирского этапа. При этом не чувствуется ни малейшей деланности, как будто сама жизнь развертывается пред нами во всем своем разнообразии.
И как развертывается! Вы испытываете одновременно и потрясение от видимого ужаса, и несправедливость человеческих отношении, и умиление, и радость за неугасаемую жажду правды, которая все время чувствуется в каждом моменте этих отношении. Даже в сценах самого дикого разгула насилия и неправды слышится неумолчный голос недремлющей совести, к которому чутко прислушивается автор и с потрясающей силой передает читателю. Благодаря этому чувству умиления, при виде торжества совести над видимым господством лжи, дикости, произвола, тягостных и ненужных жестокостей, чем так опутана жизнь человечества, – выносишь ощущение бодрящей свежести и радостного настроения. Это общее впечатление можно бы сравнить с тем, какое производят старинные легенды о мученичестве праведников. Как в этих легендах, так и здесь вся эта власть грубой силы и лжи кажется чем-то ненастоящим, без корней, чем-то таким, что непрочно, не имеет внутреннего развития, а лишь временно и преходяще, что отпадает, как шелуха, когда наступит «полнота времен».
Анализируя различные моменты романа, критик приходит к такому заключению:
«История Катюши – это история тысячи тысяч Катюш, гибнущих на заре жизни и не воскресающих никогда. История Нехлюдова – тоже обычная история постепенного падения огромной массы когда-то хороших и чистых юношей, превращающихся в сытых, самодовольных животных, в безумии эгоизма не замечающих этого падения. А вся обстановка, при которой разыгрывается драма этих двух людей, жизнь в тюрьме, суд, этап, высшая бюрократия – разве эта не сама действительность, та «настоящая жизнь», к которой мы так привыкли, что уже и не замечаем всех ее ужасов? И нужен такой огромный талант, как Толстого чтобы заставить нас очнуться и задуматься над нею.
Этого результата Толстой, несомненно, достиг. Ни одно крупное художественное произведение не было так распространено, как «Воскресение», так читаемо и обсуждаемо. Оно проникло в самые далекие уголки, куда редко проникает книга, и там возбудило еще большее внимание, чем на поверхности жизни. Огромное значение этого факта скажется в той или иной форме в свое время. Теперь же можно сказать, что результат будет самый благотворный, ибо и мысли, и чувства, возбуждаемые романом, очищают душу и воскресят не одного Нехлюдова, спасут не одну Катюшу».
Закончим наше краткое обозрение выдержками из статьи известного критика и публициста Андреевича (Соловьева).
Вот какое мнение высказывает он о новом произведении Льва Николаевича:
«Воскресение» Толстого лучше всего доказывает, как неутомимо работает его критическая мысль, как старается он вскрыть язвы нашей жизни, похоронить мертвецов и еще раз напомнить людям, что «суббота для человека, а не человек для субботы», что «веселы растения, птицы и насекомые и дети, но люди – большие, взрослые люди – не перестают обманывать и мучить друг друга», что они считают, что важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что мы сами выдумали, чтобы властвовать над людьми…
Толстой в своем романе перечисляет все те субботы, в жертву которым люди приносят живущее в их душе царство Божие. Это субботы условностей, обычаев и приличий, жестокости и власти над другими, субботы формализма, рутины и правил, желание стать выше других и показать свое превосходство. над ними. В этом смысл воистину гениального романа…»
Читать дальше