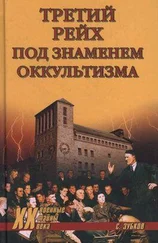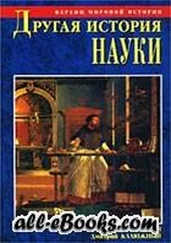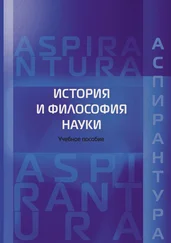1 ...6 7 8 10 11 12 ...21 Замена убегающей памяти. Жалкий призрак надежды поймать уходящее.
Если книжку не сожгут, не выбросят, не изорвут и она дойдет до человека с душой и умом – он, наверное, кое-что из нее поймет относительно трагедии человеческого сознания.
Книга вышла страшная. Книга смертей. Умерли самые близкие: мать, сестра и, наконец, самое страшное – Николай. Застрелился Д. С. Рождественский, умер П. П. Лазарев.
Война. Ленинградский ад.
Внутреннее опустошение. Смертельные холодные просторы. Полное замирание желания жить. Остались только Олюшка да Виктор.
Начинал книгу совсем иначе.
Вышла – траурная книга» (16.11.1943).
В том же 1943 году началась затяжная реэвакуация академических институтов в Москву, и едва ли не главным делом Вавилова на многие месяцы стала борьба за возвращение здания ФИАНа на Миусской площади, занятого каким-то заводом. Теперь он уже подолгу живет в Москве, берет с собой жену, а в мае 1944 года впервые с начала войны приехал в Ленинград. Туда хотел вернуться на постоянное жительство и работать в своем любимом ГОИ, но получилось по-другому:
«…Был в Кремле у Молотова и Маленкова. Предложено стать академическим президентом вместо Комарова. Нечувствительность, развившаяся за последние годы, вероятно, как самозащита, дошла до того, что я не очень удивился этому предложению. Оно совершенно разрушает мою жизнь и внутреннее естество. Это значит, ужас современной Москвы в самом концентрированном виде давит на меня. Это значит расстаться с Ленинградом. Это значит, исчезнет последняя надежда вернуться к своему прямому опыту.
А сумею ли я что-нибудь сделать для страны, для людей? Повернуть ход науки?» (14.07.1945).
«Вчера выбрали. 92 голоса из 94 [какой маленький тогда был нужен кворум ]. Что на самом деле думали про себя эти академики, и настоящие, и липовые, – конечно, уже растаяло в вечности» (18.07.1945).
Дальше оптимизма не прибавилось:
«Тысячи новых дел, холопское почтение. Ну зачем же это все. Хотелось прожить последний десяток лет в ретроспекции на мир и на себя» (25.07.1945).
«Сегодня месяц академического ярма. Каждый день просыпаюсь с ужасом и отвращением. Чувствую, что я совсем не то, что надо. Малое мешаю с большим. Вероятно, очень скоро окажусь не ко двору» (17.08.1945).
«В голове мозаика больших дел, просто дел, делишек и мелочи. Ко мне прилипло что-то внешнее, павлинье оперенье, совсем со мной не связанное. Не чувствую никакого соответствия и своего. Словно актер, изображающий президента. Каждую минуту нужны решительные решения. Делаю, по-видимому, много ошибочного, не comme il faut, невпопад. Вот, например, с атомными бомбами что-то в этом роде» (25.08.1945).
Не часто можно узнать, как чувствует себя человек, получивший один из высших постов в государстве (а в науке и вовсе высший). Интересно, испытывает ли подобные чувства только что избранный А. М. Сергеев? Его избрание было намного демократичнее, но подозреваю, что это объясняется не уважением к ученым, а безразличием властей и неспособностью современных академиков влиять на положение дел в стране (по контрасту можно вспомнить массовый уход профессоров Московского университета сто с лишним лет назад).
«С атомными бомбами», как известно, получилось, и вообще Вавилов все-таки «оказался ко двору». Пятью годами позже, когда должны были пройти очередные выборы (как можно понять, отсроченные из-за тяжелой болезни Вавилова), ни о каких других кандидатурах вроде бы речь не шла. Что еще важнее, в глазах порядочных людей Вавилов тоже оказался человеком на своем месте. Может быть, его пример особенно хорош в подтверждение афоризма, приписываемого разным деятелям: о мужестве, необходимом, чтобы изменить то, что можно изменить, терпении, чтобы перенести то, что изменить нельзя, и мудрости, чтобы отличить первое от второго.
Если представить себе, что Вавилов прожил лет на десять больше (примерно до моего теперешнего возраста), а в остальном все было бы так же, то многое могло бы измениться к лучшему в науке и во всей стране. Реабилитация Николая Вавилова получилась бы более ранней и полной, а крах академика Лысенко – наглядным и окончательным. Нобелевскую премию 1957 года получил бы коллектив с участием Вавилова. Правда, при этом пострадал бы кто-то из троих, удостоенных ее в действительности. Премия может делиться максимум на троих в равных долях или на одну половинку и две четверти (Жорес Алферов – такой четверть-лауреат, что должно быть ему немного обидно). Но четыре лауреата по четвертушке – уже запрещенное сочетание (похоже на какой-то закон физики элементарных частиц). Так или иначе, нобелевский лауреат в ранге президента АН стал бы наряду с рассекреченным Курчатовым, или вместо него, лицом новой советской науки. В СССР повысилось бы уважение к Нобелевской премии, что могло бы сказаться и на судьбе Пастернака.
Читать дальше