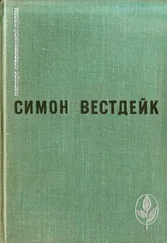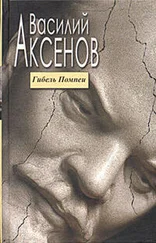— Так что, начальник штаба, ты тоже считаешь, что мы напрасно тут зимуем?
— Не считаю. Где было лучше зимовать — тут или в своих районах никто не знал. А людей надо было сохранить, потому решение правильное.
Злость у Вакуленки начинает спадать, он на глазах веселеет.
— Ну, спасибо тебе хоть за это. А то до меня слухи доходят, что Лавринович иначе думает. Неделя, как прилетел из Москвы, а к нам и носа не показывает. Сидит в Минском штабе и отряды делит. Про нас будто думка твердая: отсиживаемся.
— Слухов не слушай, — шутит Бондарь. — Им не особенно стоит верить. А если что, докажем бумагами. Я, Адам Рыгорович, не зря у тебя два месяца хлеб ем. У меня все как должно быть записано.
Входит хозяйка, бросает около печки охапку дров. Узколицая, чернявая, довольно еще молодая и видная, она весело поблескивает серыми глазами, как бы с насмешкой взглянув на командиров, трое из которых сидят за столом, а двое, не раздевшись, держа шапки в руках, стоят посреди комнаты.
— Так что, дорогие гости, может, ужинать будете? На всех подавать или только своим? Лучше всем вместе, а то еще поссоритесь.
Вакуленка с ловкостью, несколько необычной для его медвежьей фигуры, метнулся к хозяйке, обнял за плечи, прижал к себе.
— Люблю тебя, Катя. Хоть бы одну ночь подарила.
— Ага, любишь, — Катя не пытается вырваться из объятий.
— Могу замуж взять. Пойдешь за меня?
— Пойду. Почему не пойти? Такой отменный кавалер.
— Так давай теперь. Зачем откладывать? Начальник штаба нас запишет. Он у нас как до войны загс.
— Нехай записывает. Я согласна. Только я хотела спросить, успел ли записаться с Нюркой из Барсуков?
— С какой Нюркой? Что ты говоришь, Катя?
— С той, что на коне катал. В седле. По всему селу возил.
Вакуленка, выпустив хозяйку из объятий, громко хохочет.
— Наговоры. А если что и было, то только под пьяную руку.
— А Вера из Бывалек? С ней на отдельной квартире жил. Шторки на окнах, занавесочки повесила...
— Брось, Катя. Зачем вспоминать летошний снег?
— Могу и про сегодняшний. В моей хате штаб, а ты хоть один вечер посидел со мной? Может, я сама хотела, чтоб посидел. Стареть стал, командир. К молоденьким тянешься.
Вакуленка не обижается. Мотая большой, кудлатой головой, посмеивается, видно удивляясь точности Катиной бухгалтерии, которая взяла на заметку каждый его неправедный шаг.
Ужинают вначале скучновато. Лениво хрустят огурцами, подолгу перебирают пальцами каждую картофелину. Наконец Вакуленка не выдерживает:
— Выпьем немного, хлопцы. Черт его побери! Все равно наш штаб, наверно, не удержится. Лавриновичу нашептывают разные. У Деруги был, у Михновца, у Гаркуши, а к нам все не соберется. Новая метла чисто метет. Хотя без нас, думаю, и Лавринович не обойдется. Принеси, Катя.
Когда хозяйка, немного задержавшись в передней половине хаты, принесла и поставила на стол задымленный графин с рыжеватой жидкостью и несколько стаканов, пригласили к столу и ее. Хорошее настроение, можно считать, пришло после первого стакана. Хозяйка долго отнекивалась, но все вместе заставили и ее немного выпить.
— Ты не обижайся, Петровец, — Вакуленка сидит, подперев голову рукой, и почти не закусывает. — Тут видишь какая механика. Если половина твоего отряда тут, а половина — в районе, то Лавринович очень просто наступит нам на хвост. Скажет: вот посмотрите, держатся люди в районе и немцев не боятся. Не выпустили им кишки немцы, а вы сбились, как овцы в жару, и только вшей один у другого ищите. Можно подойти к такому делу и с другой стороны. Батура там очень уж большую бдидельность проявляет. По-моему, кишка тонка, вот и бесится. Подумаешь, отряд — шестьдесят пар лаптей. Но Лавриновичу будет за что зацепиться. Не волнуйтесь.
— Надо ехать туда, — говорит Бондарь. — Разреши мне с Петровцом, Адам Рыгорович. Возьмем с собой человек тридцать. Чтоб не подумал Батура, что расправляться прибыли. Один на двух ихних.
— Разъезжаете, ходите, а когда покой настанет? — вздыхает хозяйка. Где бедному человеку защиту найти? Вот сижу я, вдова, с детьми, а до чего досижусь? Хоть бы детей сберечь...
— Не грусти, Катя, — Вакуленка, протянув руку через стол, гладит хозяйку по волосам. — Мы настоящие партизаны и свой народ в обиду не дадим. Ну, подумай — вот тут, в Сосновице, мы даже семьи полицаев не тронули. Они наши семьи расстреливали, издевались, а мы их не трогаем. Сидят тихо — пускай сидят. Ну, а что я плохого сделал своему народу? Может, какую молодуху или девку, подвыпив, прижал, так, ты думаешь, очень они отбрыкивались? На здоровье, как говорится. Невинной крови я не проливал и проливать не буду. Может, разве где ошибка вышла. Все ж таки тысячи людей — черненьких, рябеньких, полосатеньких, — среди них, может, где какому ангелу хвост прищемил.
Читать дальше