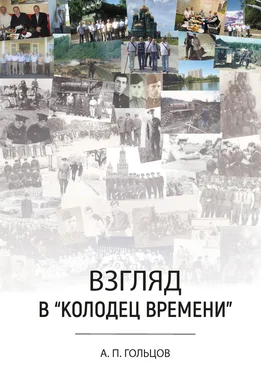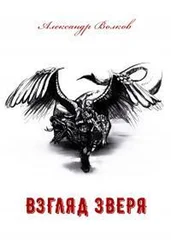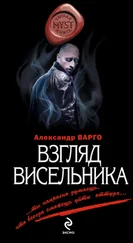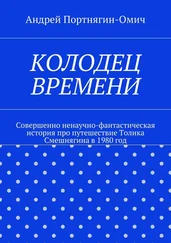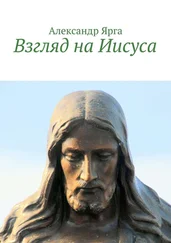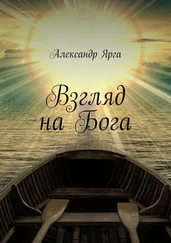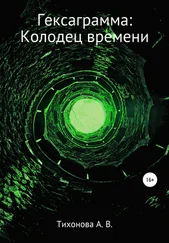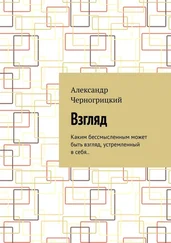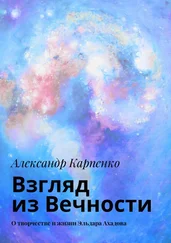А ведь, когда в 1930-х годах принимались решения о строительстве волжских гидроузлов, намерения были самые благие: получить большое количество дешёвой электроэнергии, а также создать единую глубоководную артерию, соединяющую два северных (Белое и Балтийское) и три южных (Каспийское, Азовское и Чёрное) моря. Электроэнергия и надёжные транспортные артерии, конечно же и раньше, и сейчас нужны. Но, похоже, не все последствия “укрощения” Волги были учтены и приходится заниматься ими, поскольку негативные проблемы начинают проявляться всё более активно и зримо.
Понятно, что потребности экономического развития, так или иначе, ведут к вмешательству человека в окружающую среду и без этого не обойтись. Ясно также, что оно не может остаться без последствий, поскольку человек своими действиями в течение нескольких лет нарушает, а то и разрушает природное равновесие, формировавшееся десятки, сотни тысяч и даже миллионы лет. И вот именно в таких делах очень важно учитывать опыт прошлого. Положительный пример такого рода есть: вспомним как остро в 2006 г. встал в обществе вопрос о переносе трассы нефтепровода “Восточная Сибирь – Тихий океан” севернее ранее намеченного маршрута, подальше от берегов Байкала. Волевым решением Президента Российской Федерации В. В. Путина трассу было предложено провести на 40 км севернее ранее намеченной. Реально же, в связи с этим указанием, и после учёта всех технологических и экономических условий, трассу перенесли на 400 км севернее.
По дороге на Волгу проходили под двумя железнодорожными мостами. Сейчас они железобетонные, а во времена нашего детства были деревянными, построенными ещё в конце XIX века. Во время прохода каждый раз с интересом смотрели на густое переплетение деревянных свай, перехваченных между собой деревянными же укосинами и распорками. Зрелище было впечатляющее, вызывало у нас любопытство и восхищение таким оригинальным воплощением инженерной мысли. Ведь эти мосты прослужили, до их замены на железобетонные, почти 80 лет, ежедневно и ежечасно выдерживая огромный вес проходящих составов. Неоднократно у нас возникало желание пролезть между сваями “поглубже”, к основанию, рассмотреть поближе, как всё это было сделано. Но лазать туда мы не лазали. Желание отбивал уже сам вид брёвен, которые за долгие годы пропитались мазутом и различной грязью.
Частенько предпочитали ходить на Волгу напрямик, не под мостами, а поверху, через железнодорожные пути. При этом приходилось пересекать две группы путей: одна шла от главной станции Сызрань I со стороны Москвы, другая – от станции Сызрань-город со стороны Саратова. Далее эти две группы путей за городом Октябрьском, который в нынешнее время практически соединился с Сызранью, образно говоря, “сливались” перед мостом через Волгу в обычный двухколейный путь в общем направлении на Самару. Переход через железнодорожные пути значительно сокращал время похода (мосты были правее и приходилось делать крюк), но и смотреть надо было в оба: левее нашего места перехода первой группы путей располагалась сортировочная горка, поэтому кроме проходящих составов по путям перемещалось множество вагонов. Да и стрелочники, и охрана гоняли нас с путей. Во время таких переходов мы любили раскладывать на рельсах спички и слушать, как они взрывались под колёсами проходивших составов или вагонов (звук был достаточно громким). Клали на рельсы и монеты, а потом подбирали вместо них овальные тонкие “лепёшки”, на которых проглядывались остатки бывшего чекана.
Вообще железная дорога пятидесятых годов уже одним своим обликом привлекала нас, манила к себе. Особенно интересно было смотреть на её жизнь вечерами с пешеходного моста возле вокзала (за ним закрепилось название “перекидной мост”), куда мы с друзьями частенько для этого и ходили. На стрелочных переводах зажигались сигнальные фонари, светились окна в будках стрелочников, двигались яркие огни прожекторов паровозов, огоньки фонариков обходчиков и осмотрщиков вагонов. На этот световой фон накладывался звуковой: гудки паровозов, свист и шипение выпускаемого ими пара, мелодичные звуки рожков стрелочников, подававших машинистам сигналы о переводе стрелок (два гудка – на второй путь, три гудка – на третий путь), на что машинисты отвечали им короткими гудками в знак того, что сигнал принят. В эти звуки вклинивался голос диктора, объявлявший о прибытии или отправлении пассажирских поездов и отрывистый звон колокола на станции (на языке железнодорожников он назывался, как и у моряков, рындой ), подававший сигналы об их отправлении. Игра света и перекличка звуков создавали своеобразную “цветомузыкальную симфонию” рабочей жизни станции. Сызрань – крупный железнодорожный узел с большим количеством путей и описанная выше картина по её пространственному размаху была действительно очень впечатляющей.
Читать дальше