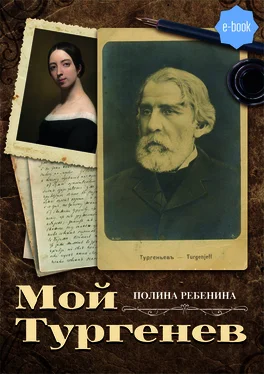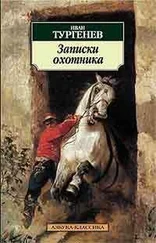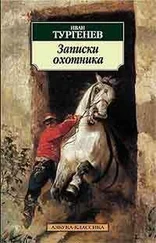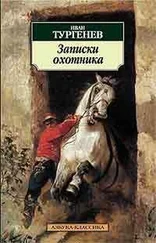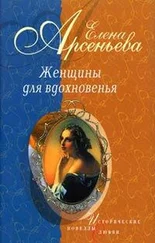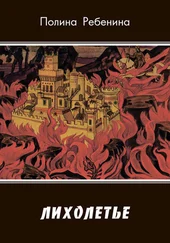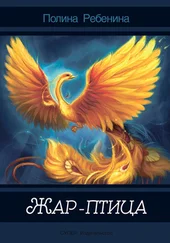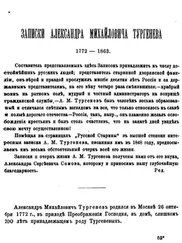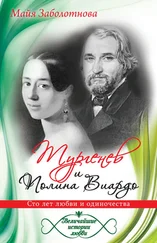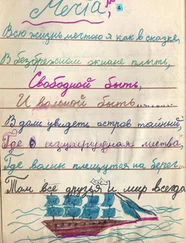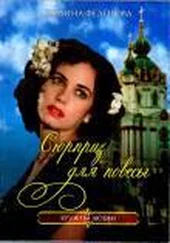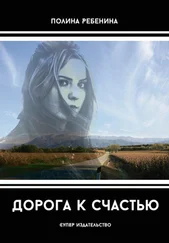Иван Сергеевич получил блестящее образование, говорил на шести языках – русском, французском, немецком, английском, на латыни и греческом. Уже в зрелом возрасте изучил испанский и со своими испанскими друзьями говорил на их родном языке. Причем, французский язык Тургенева был не только совершенным, но чрезвычайно образным, был даже богаче, чем язык многих французских писателей, которые признавали, что даже «Флобер не мог состязаться с Тургеневым в вольной простоте речи, ее круглости, естественности, незакованности – дающей более места дыханию жизни».
Друг писателя Павел Анненков высказал интересное наблюдение, что молодой Тургенев самым позорным положением, в какое может попасть смертный, считал то состояние, когда человек походит на других. Он опасался этой «страшной участи», навязывая себе в те юные годы невозможные качества и особенности, даже пороки, лишь бы только они способствовали к его отличию от окружающих. Он изо всех сил стремился быть оригинальным. Это наивное, даже где-то детское желание быть особенным, отказаться от навязанной обществом рутины, одновременно способствовало выработке собственного независимого взгляда на природу окружающих его явлений и сторон жизни. Юный Тургенев непроизвольно искал свой путь в жизни! И он его нашел, собственный путь, необычайный, особенный и часто непонятный для окружающих.
* * *
Самой сильной страстью в жизни Тургенева была любовь к писательскому творчеству. Он пробовал себя в различных литературных жанрах – в поэзии, прозе, драматургии, переводах и во всех этих сферах достиг огромных успехов. Он испытывал истинную любовь к Музе и говорил своим друзьям: «Поэты недаром толкуют о вдохновении. Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не внушает им готовых песен, но особенное настроение, похожее на вдохновение, бывает. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать, еще не знаешь что именно, но чувствуешь, что писаться будет. Вот именно это поэты называют «приближением бога»… И эти минуты есть единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто писать бы не стал. После, когда приходится приводить в порядок, что носится в голове, излагать на бумагу, – начинается мученье…»
Ради вдохновения и мук творчества Тургенев умел отодвинуть в сторону все ненужное, мешающее, обыденное, те преграды и препоны, которые возникали на его пути. Все то, что отвлекало его от главного. Известно, что Тургенев упрекал поэта Афанасия Фета во внезапном увлечении помещичьим трудом, считая это предательством литературного дарования: «Он теперь сделался агрономом – хозяином до отчаянности, – писал он о Фете, – отпустил бороду до чресл – с какими-то волосяными вихрами за и под ушами – о литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом».
Тургенев же никогда не изменял своему литературному призванию, отдавая ему все свои силы. По этой причине родовое имение в Спасском, процветающее при жизни матери писателя Варвары Петровны, после ее смерти постепенно пришло в упадок. Тургенев любил общество друзей и охотно приглашал их погостить в Спасском, а те удивлялись запустению, в которое пришло некогда роскошное лутовиновское имение. Иван Сергеевич часто говорил, что он – художник, а совсем не помещик. Не считал он себя также политиком или революционером, что в те бурлящие времена второй половины 19-го века, казалось многим его современникам, в том числе критикам Добролюбову и Чернышевскому, предательством общественных интересов.
Тургенев был натурой глубоко творческой, писательство всегда стояло для него на первом месте. Дар ему был ниспослан великий, этот божий дар не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Как часто удивлялись окружающие «невежливости» Тургенева, который мог погрузиться в молчание даже во время светского визита и выдерживать паузу иногда по нескольку часов. А ларчик открывался просто – даже во время визитов продолжался в душе писателя творческий процесс, который заставлял его уходить в себя.
Известен случай, когда Тургенев навестил сестру Льва Толстого Марию и вел с ней оживленную дискуссию о поэзии. Мария поэзии не понимала, и Тургенев старался привить ей интерес к этому виду творчества. Но внезапно он замолчал, повернулся и вышел в сад. Причем вышел совершенно необычным путем, через дверь, которая возвышалась над уровнем земли на целый метр – лестницы там не было. Мария Толстая выскочила следом, обеспокоенная, но писателя и след простыл. Он долго не появлялся, около трех недель. А потом вдруг опять пришел, как ни в чем не бывало. Свое исчезновение он объяснил просто: вдруг почувствовал внутреннее кипение, всплеск творческого начала, и убежал поскорее, чтобы не расплескать этого состояния. Три недели он самозабвенно писал и сотворил повесть «Фауст», которую был готов теперь прочесть.
Читать дальше