
Мама с сестрой Зоей

Семья (Уфа, 1987 год)
Я с мамой часто говорю,
Увы, не лично, а с портретом.
И ощущаю я при этом —
Пришел как будто к алтарю.
И каюсь как перед живой,
Что груб порой, горяч, как пламень…
И чувствую: с души, как камень,
Снимается ее рукой.
И в роднике моей души
Светлее помыслы, надежды…
И мама словно бы, как прежде,
Шепнет: «Сыночек, не спеши».
Мне раньше было невдомек,
Когда любуясь небом звездным,
Шел, не спеша, я ночью поздней
И дома видел огонек.
Тот свет в окне грел душу мне
И, возвращаясь среди ночи,
Я был уверен, между прочим:
Мать ждет в полночной тишине.
Потом, волнуясь и любя,
Твердила: «Я вот только встала,
К окну – и сразу увидала,
Узнала издали тебя».
О матерей святая ложь,
Где радость смешана и слезы!
Ты огоньком в душе, сквозь грозы,
К порогу дома нас ведешь.
Стихи не вспомню наизусть:
Тоска и грусть, как в день осенний…
Среди житейских потрясений
О маме Богу помолюсь.
И вспомню тихое житье
В избе, где жаркой печки пламя
Лицо опять румянит маме,
Моложе делает ее.
Я мамин слушаю романс,
Что мне поет она меж делом…
Стоит весна, и вишни в белом
Сулят счастливый в жизни час.
…О маме сны приходят вновь
Из давней юности и детства —
Мое богатое наследство,
Где мамы ласки и любовь.
В детстве больше всего на свете я любил спать и всегда недосыпал. Нужно было помогать маме по хозяйству, то есть, просыпаться рано. Спал я наверху, на печке, а там тепло, спится сладко. Я мечтал о чем-то своем, о чем мечтают в детстве все мальчишки. Представлял, что такого интересного ждет меня в жизни, какие подвиги и открытия предстоит совершить.
Мои мечты всегда прерывал дедушка Никита:
– Вставай, Геняй! Утро уже, хватит лентяйничать, работа ждет.
– Дед, еще пять минут! – сонно бормотал я.
– Дай ты ему полежать, – вступалась за меня мама.
Но дед не унимался:
– Вставай, таракан запечный! Эх, не в нашу ты породу!
Этот упрек-восклицание я услышу от дедушки еще не раз.
Утро в деревенском доме начиналось с запахов. Мама ставила в печку чугунки с едой, было слышно, как фыркает на огне картошка или какая-нибудь похлебка. Еда была самая простая, но такая вкусная, что никакие деликатесы потом мне так и не заменили кружку деревенского молока с печеной картошечкой. Мама доставала ухватом чугунок, ставила на стол. Запах картошки обволакивал уже всю избу и манил. Я сразу вскакивал и бежал за стол.
– Погоди, Гена, руки обожжешь! – восклицала мама.
Но я, одурманенный магическим ароматом, уже ничего не слышал.
– Конечно, как поесть, так мы опервя планеты всей. А так спим до обеду! – ворчал дед Никита.
Он ел картошку по-другому, с трепетом и уважением.
– Картошка – кормилица наша, – задумчиво произносил дед. – Будет урожай, авось и войну переживем, разобьем немцев.
Дедушка Никита все мое детство пытался научить меня драться. Сначала просто так, без цели, играя. А затем по необходимости. Дело в том, что дед делал для пастухов кнуты. А так как практически никаких игрушек в моем детстве не было, то на улицу я гордо выходил с этим самым кнутом. Зачем? Вертеть его в руках, бить им ветки, крутить как скакалку и прыгать… Приходилось придумывать себе развлечения фактически из ничего. И вот каждый раз, как только я выходил поиграть со своим кнутом, мальчишки постарше его у меня отбирали. Максимум через час моей прогулки. Я прибегал к деду в слезах, на что он всякий раз отвечал:
– Как отобрали? А где синяки? Не могут у пацана просто так что-то отобрать! Ты дрался с ними?
– Нет, – опустив голову, отвечал я.
– Пошли, буду тебя учить!
Дед честно пытался научить меня всем боевым приемам. Но в детстве я был настолько щуплым и стеснительным ребенком, что все усилия деда оказывались напрасными.
Читать дальше



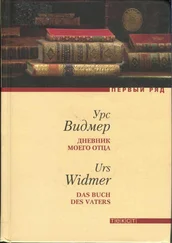
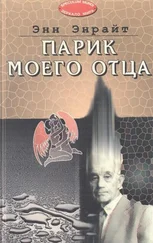



![Камил Икрамов - Дело моего отца [Роман-хроника]](/books/411899/kamil-ikramov-delo-moego-otca-roman-hronika-thumb.webp)
![Марсель Паньоль - Слава моего отца. Замок моей матери [сборник, litres]](/books/420986/marsel-panol-slava-moego-otca-zamok-moej-mater-thumb.webp)



