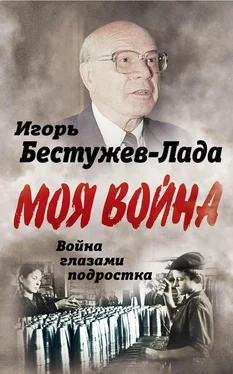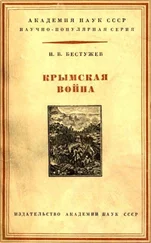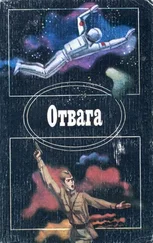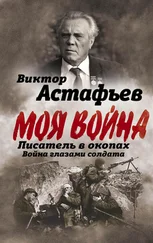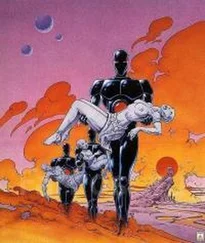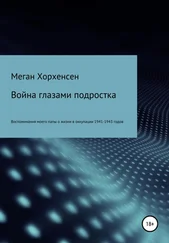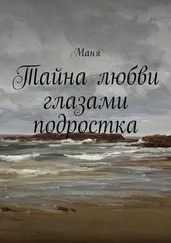И при этой безумной чехарде он успел еще несколько месяцев отслужить в армии. Правда, тогда красноармеец – член партии был такой же диковиной, как сегодня, скажем, министр – дневальным в солдатской казарме. На собраниях партячейки он сидел на равных с командиром и комиссаром полка. И, естественно, не признавал никакой дисциплины. По его рассказу, когда явился однажды ночью прямо с постели по срочному вызову к командиру не в положенной форме, а в шинели, накинутой прямо на исподнее и в калошах на босу ногу – тот сначала впал в состояние, близкое к обмороку, а наутро написал незадачливому партгусару увольнительную от дальнейшего прохождения службы. Так и остался отец, если верить его красноармейской книжке, «рядовым необученным». Больше его к армии близко не подпускали.
* * *
Но каким бы талантливым организатором ни был отец, на четырех классах образования в государственных масштабах далеко не уедешь. А ведь у нас почти все вожди-учителя до Хрущева включительно (до 1965 года!) застряли в лучшем случае именно на этом рубеже просвещения. С соответствующими кошмарными последствиям! для судеб страны, начиная с армии и кончая сельско-городским хозяйством. Потому что партшколы разного рода, которые они добавляли к своим церковно-приходским, никакого отношения к собственно образованию не имели. Да они и сами, при всем гоноре на трибунах, сознавали глубину своего невежества. Поэтому в начале 30-х годов было принято решение, по драматизму своему сопоставимое с посылкой Петром I боярских детей на учебу за границу: отобрать из членов партии тысячу наиболее способных к учебе («парттысяча») и отправить их в вузы, как обычных студентов.
Можно себе представить, что это означало для «большого начальника» со спецпайком и служебной квартирой, привыкшего самодурствовать в своей вотчине, не отказывая себе ни в чем. И хотя стипендия была повышенная, и в комнатах общежитий «парттысячников» расселяли семьями, а не вповалку, как обычных студентов – все равно это было равноценно разжалованию генералов в рядовые. Поэтому направляли принудительно – «в порядке партийной дисциплины», как на фронт. И партвзыскания за неуспеваемость были драконовские. Хотя, конечно, отсев при уровне культуры таких «студентов» не мог не быть огромным. Ведь им предстояло за год окончить шесть классов средней школы (в дополнение к своим четырем начальной) и затем садиться на студенческую скамью рядом с абитуриентами-десятиклассниками. Очень жалею, что долго не понимал этого и не упросил отца много позже написать об этом подробнее. Ведь мы знаем об этой драме только по комедии посылки Чапаева в военную академию и его бегства оттуда на фронт как в менее кошмарное для него место.
Вот почему ранней весной 1931 года, когда еще не стаял снег, наша семья прибыла из Казани в Москву, в «семейное общежитие» для парттысячников по адресу: Новое шоссе – теперь Тимирязевская улица, дом 26-Б, комната сначала на первом этаже, а потом на втором, угловая № 50: отцу предстояли подготовительные курсы, чтобы с осени начать заканчивать среднюю, а потом и высшую школу, что заняло в общей сложности шесть лет. Этот дом, рядом с другим таким же красно-кирпичным двухэтажным, стоит до сих пор. В нем перебывала масса разных учреждений. Не знаю, какое – сейчас, потому что давно не был, но во второй половине XX века ностальгически наведывался туда едва ли не ежегодно, как в некую Новую Малую Ладу.
Так 27-летний «большой начальник» губернских масштабов не по своей воле сделался студентом Института механизации сельского хозяйства – побочного отпрыска знаменитой Тимирязевской академии. А его сын провел всю свою жизнь между младенчеством и отрочеством среди полян и дореволюционных дач, рядом с заповедным тимирязевским лесом через шоссе, с одной стороны, и трамвайной линией от Тимирязевки к Савеловскому вокзалу – с другой. В километре от трамвайной остановки с романтическим названием «Соломенная сторожка» (название существует до сих пор) и деревянной церковью чуть ли не XVIII века (увы, в конце 30-х сгорела).
Понятно, ребенком я не мог видеть в отце студента и сужу о годах его учебы только по его же собственным рассказам. Но до сих пор не представляю себе его за чертежной доской или за задачами по математике, физике, химии. По марксизму-ленинизму – это да, это сколько угодно. Да ведь он не один был такой. С присущим ему юмором он рассказывал, как страдали профессора на приеме экзаменов у парттысячников. Да, формально он, как и все его товарищи, с грехом пополам (в буквальном смысле этих слов) стал одним из сотен тысяч (впоследствии целых шести миллионов) «советских инженеров». Но фактически как был «руководящим работником», так и остался. Только кругозор стал пошире и культура повыше. Сегодня думаю, для всего этого вполне хватило бы не шести лет, а максимум полугода переподготовки – с абсолютно такими же реальными результатами.
Читать дальше