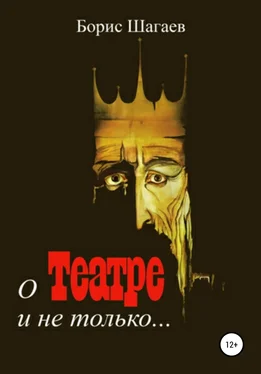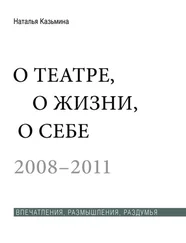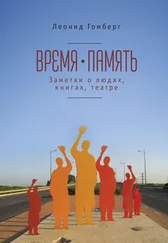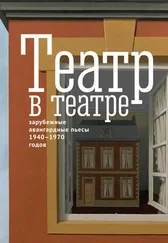«Человек – это венец всего живого» – слышался подтекст в монологе. Для того времени (60-е годы) это звучало актуально и современно. И через много лет я смотрел спектакль «На дне» в Москве, в театре «Современник», где в роли Сатина был Е. Евстигнеев. Трактовка роли была другая. Когда Евстигнеев произносил монолог «Человек – это звучит гордо» – у зрителя стоял комок в горле. «Человек» – произносил актер тихо, слегка наклонив голову на нары, а потом, через паузу говорил совсем тихо – это звучит гордо. Актер весь трясся. Актер плакал. Подтекст был другой, чем у Симонова в 60-х годах. Человек, мол, ничто, букашка и когда говорят – это звучит гордо – это насмешка, мол. Человек раздавлен, и он ничего не значит. Ценность человека – ноль. Это было новое прочтение, созвучное времени. Да и сейчас этот монолог в исполнении Евстигнеева прозвучал бы современно. В Москве, Ленинграде и в других крупных городах, сколько нищих, сколько роющихся в мусорных баках. Сколько людей, выбитых из орбиты жизни. И их цена жизни – никакая. Человек это звучит гордо – только на бумаге. В жизни же все виртуально. И Н.Симонов и Е.Евстигнеев в роли Сатина обнажили нерв своего времени. Каждый по-своему и убедительно.
На кафедре Вивьена учились еще до войны кинорежиссер С.Герасимов, киноактеры Петр Алейников, Тамара Макарова, Олег Жаков и т.д.
В театре Пушкина (Александринский, бывший императорский) служили актеры – личности. Это была особая каста. Если они шли по Невскому, все смотрели на них, оглядывались. Шла порода.
В 50–60 годы режиссеры Вивьен, Товстоногов, Акимов были властителями дум.
Словесные формулы мэтра:
1. Режиссеру не прощаются отступления от художественной принципиальности ради сохранения душевного покоя и достижения материальных благ, нарушения элементарных этических норм во взаимоотношениях с людьми. Нельзя завоевывать так называемое «положение», самоутверждаться, выпячивать свое «Я», приобретая власть над людьми.
2. Режиссера могут походя обругать в газете неизвестно за что, лишить постановки, снять с работы только потому, что в его спектакле кого-то (ох уж этот таинственный «некто в сером!») что-то не устроило. Режиссер никогда почему-то правым быть не может. Все вокруг знают «как надо», он один почему-то всегда ошибается и заблуждается.
3. Отрицательный опыт – тоже опыт. И им не нужно пренебрегать.
Советский писатель Лев Никулин написал книгу «Люди и странствования». В ней глава о Шаляпине. Юмор высоко ценится в театральной среде. Даже не очень добрый. Настоящий юмор иногда может быть и злым. Актер, изображающий Шаляпина вышел на сцену. Объявили: сейчас выступит Шаляпин и расскажет о Льве Никулине. Вышел и сказал – Лев Никулин… Не знаю… Не помню… И ушел.
Если Вивьену нравился отрывок, какая-то работа студента, он говорил всегда: «Прелестно! Вперед и выше!». Или вначале показа отрывка говорил студенту:
– Ну-с, батенька, покажите, что вы сотворили?
А если не нравилась работа студента говорил: «Гарнира много! Так много, что иногда зайца не видать». Все было ясно. Он не унижал, не костерил, а заставлял студента думать и работать. «Это все внешнее, а вы глубину ищите, господа».
С едким юмором отвергал Вивьен модные в то время «новации». Зритель теперь ко всему привык… Если актеры начнут вылезать из-под стульев или сигать с люстры никто не удивится. Думаю, что скоро новатором в режиссуре будет считаться тот, кто просто начнет спектакль со звонка в фойе и поднимет занавес.
По поводу условности в спектакле: «Поднявшаяся «внебытовая условность», которой увлекаются в последнее время режиссеры, пугает». Это было в 60-х годах. А что творится сейчас на сцене в 21 веке? Условная композиция, инсценировка, условная режиссура с многочисленными якобы символами, условная актерская игра. И зритель думает, чем отличается жанр театра от эстрады, где в основном условны (но бывают и характерны) игра, оформление (а может и вообще не быть) и т.д. И отсюда появляется «бесполая» драматургия.
МЭТР внушал нам, студентам, профессиональные азы.
Первый год я был только вольнослушателем по режиссуре. До этого я учился актерскому мастерству в Калмыцкой студии у преподавателя Альшиц Оды Израилевны. Великолепный человек, тонкий психолог. Мы, полуграмотные студийцы, были как пластилин. Не испорченные жизнью, верили ее каждому слову. Она приобщала нас к театру и вообще к культуре. Она расковала нас. Терпеливо, ненавязчиво шлифовала нас. Делала огранку по-матерински. Нам повезло, что мы попали к ней. Она водила нас всех домой, знакомила со знаменитыми людьми театра. Постепенно в нас исчезала провинциальность, зашоренность, закомплексованность. Светлая память о ПЕРВОМ ПЕДАГОГЕ останется навсегда.
Читать дальше