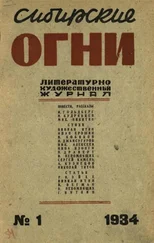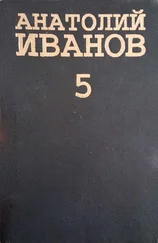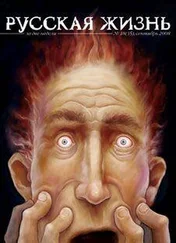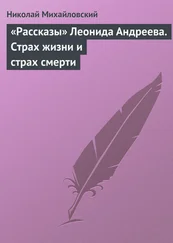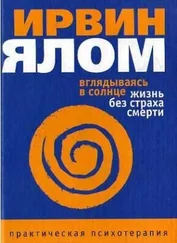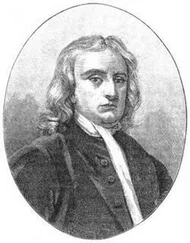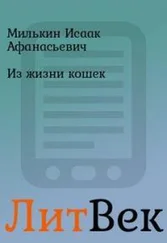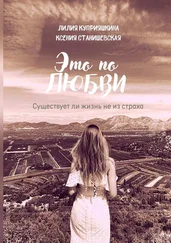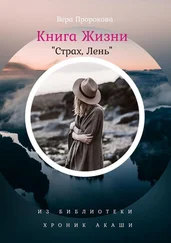Стипендиальная комиссия всегда состояла из двух человек – зам. декана нашего факультета Немчёнка Л. С., ответственного за первые три курса, и меня. После каждой экзаменационной сессии эта комиссия (понимаю, звучит смешно) заседала в деканате, а её работа состояла в следующем: обсуждались только те студенты, которые получили хотя бы одну тройку. Я прекрасно понимал свою роль, которая выражалась в том, чтобы почти всегда соглашаться с Немчёнком Л. С. в том, что очередной студент с тройкой не достоин стипендии. Зато такое поведение, полагал я, даст возможность в двух, может быть, даже трёх случаях отстоять стипендию для всерьёз нуждающихся. Ведь даже в то время велась игра в демократию. И действительно два таких случая увенчались успехом. Один из них я запомнил очень хорошо – он был связан с Эдиком Халепским, с которым я тогда дружил и потому знал о нём больше, чем кто-либо другой. В экзаменационной сессии после первого семестра он умудрился получить целых две тройки и, конечно, потерял всякую надежду на стипендию. Когда Немчёнок произнёс фамилию Эдика и уже, уверенный, что я, как и до того, буду согласен с тем, что и этот студент не достоин стипендии, я выскочил «как чёрт из табакерки» и сказал:
– Вот как раз ему она, стипендия, нужна больше, чем кому-либо другому, поскольку его отец погиб на фронте, а зарплата его мамы, продавщицы овощного магазина, всего 70 рублей в месяц.
Я был так уверен в убедительности моего аргумента, что не ожидал от него никаких возражений. Однако я ошибался. На мой аргумент у Немчёнка нашёлся контраргумент:
– Поскольку его мама продавец в овощном магазине, значит она подворовывает и имеет дополнительно к зарплате ещё столько же, а может и больше.
Вот тут я понял, что он попался на формальной логике и «выпалил» ему:
– Вы хотите сказать, что утверждение «продавец в овощном магазине – это обязательно вор» можно найти либо в КЗОТе (Кодекс Законов о Труде), либо в Уголовном кодексе РСФСР?
Я знал, что его сын учится на нашем же курсе, но на Радиотехническом факультете, и чтобы окончательно усилить свою позицию, добавил:
– Это вашему сыну не страшно остаться без стипендии, когда дома у него есть и мама и папа, к тому же оба с высшим образованием, а у Халепского ситуация совсем другая: мало того, что война лишила его отца, а мать его простая женщина без образования, вы готовы оставить его ещё и без стипендии!
Ответа на мою тираду не последовало, зато я получил нужный результат, а Эдик – стипендию. Другой подобный случай произошёл, кажется, с Эдиком Ароновым, но подробностей я не запомнил.
В этот год я стал часто захаживать в ЛИТМОвское общежитие, которое расположено в Вяземском переулке, не очень далеко от моего дома на Барочной улице. Чаще всего я заходил в комнату, где жили Миша Долгой и перворазрядник по шахматам Голосовкер и, кажется, там ещё жил Витя Костюков. Как я тогда завидовал студентам, которые жили в общежитии: хотя и скученность ужасная (по четыре человека в 10-метровой комнате, общий душ и туалет на весь этаж, примитивная студенческая столовая на первом этаже с длинной очередью и т. д. и т. п.), но при этом они ведут самостоятельный образ жизни, нет родителей, воле которых необходимо подчиняться, а всё общение с которыми происходит лишь на бытовом уровне.
А в общежитии так интересно: все одного возраста и можно разговаривать и спорить на любые темы, которые в этом возрасте приходят в голову молодому человеку. Я не исключаю, что те, кто там жил, наоборот, завидовали нам, ленинградцам. Но, как говорит пословица: «у кого что болит, тот о том и говорит». Довольно часто я засиживался в общежитии до часу-двух ночи, когда трамваи уже не ходили и мне приходилось добираться домой пешком по ночному городу.
В начале декабря Эдик Халепский позвал меня поехать с ним вместе в Ленинградскую синагогу, которая находилась на углу Лермонтовского проспекта и ул. Декабристов, на праздник Хануки. До этого я никогда там не был, но хорошо знал, что советский комсомолец не должен посещать такие места. И также было хорошо известно, что КГБ ведёт фотосъёмку, как внутри синагоги, так и снаружи. Но любопытство взяло своё. Я знал, что мои родители раз в году туда ездили, но, конечно, не на службу, а на встречу со своими друзьями и знакомыми. Не забывайте, что шёл 1959 год, конечно, не такой «кровавый», как 1948 или 1953, но тоже не самый вегетарианский для евреев. Тогда на меня произвела впечатление огромная толпа людей, заполнивших весь проспект Лермонтова перед синагогой, который на тот вечер был полностью перекрыт для движения транспорта. О том чтобы пройти внутрь и речи быть не могло, она была полностью забита людьми. Но она и не была нашей целью. Целью было просто приобщиться к какому-то запретному плоду. Я тогда почувствовал себя чуть ли не героем, который отважился прийти в запретное место, за что может последовать наказание по линии института или комсомола. Тысячи людей, заполнивших улицу, были разных возрастов и профессий, но что особенно меня удивило, так это обилие молодёжи. Несколько групп с гитарами пели песни по-русски и на иврите. Энергетика была потрясающей. Люди приходили не только и даже не столько из религиозных или сионистских убеждений, сколько из чувства национальной солидарности. Вот тут впервые я подумал, что быть евреем не так уж и плохо.
Читать дальше