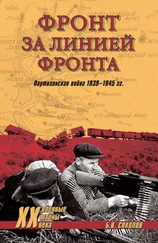«Вы из Казани, беженцы?»
Отвечает за всех предводитель: «Нет, дачники. Ищем домик с хорошим видом на реку и вообще с удобствами. Не порекомендуете ли?» У нашего «старшего» рожа небритая и зверская – он чистокровный южанин, черный, веселый и отчаянный.
Поддевка хихикает: «Ну, господа, не притворяйтесь! Выгнали вас из Казани, здорово выгнали? Вот товарищ даже портфель захватил второпях; да вы, верно, из наших?» – и подмигивает глазом – шариком масла.
Мишка делает вольт. Начинает расписывать подкрепления, полученные Красной Армией: «Помилуйте, двадцатидюймовые орудия из Кронштадта, бомбы, начиненные лунином, – через два-три дня…» – и вдруг пристально глянул на хозяина, повернул голову куда-то в сторону, к открытой степи. Очень далеко маячат тени верховых, как черные иголочки их пики. Поддевка всполошился, но тут Миша так весело опустил руку в карман, а все мы (Портфель, конечно, впереди) так быстро смылись через сад в ближнее поле, что ему не пришлось ничего сделать.
Весь остаток дня проспали в золотых душных снопах, недалеко от дороги. Несколько раз проезжали мимо казаки, и тогда тов. Иподи будил Портфеля, чтобы тот не храпел слишком громко.
Какая-то деревня – в темную, бурную ночь. Бесконечные, в полнеба, зарницы, скрип повозок, тревожное ржание лошадей.
Бегающие ручные фонарики во мраке. Измученные, сбившиеся с пути, мы подходим к обозу за несколько минут до его ухода. Куда – в Свияжск. Застаем часть штаба, уцелевшую воинскую часть, работников из Политотдела. Нас узнают. Кто-то подошел, посмотрел на нас беглым светом фонаря, и трудно-трудно, точно во рту песок или вата, спрашиваю его: «Раскольников с вами?» – «Нет». Быстро опускает фонарь, прячет в темноту выражение своего лица.
Всю ночь повозки тянутся по размытой дороге, под ливнем, при непрерывных вспышках голубого огня. Кто-нибудь застрял, приказание передается от возницы к вознице, весь поезд останавливается. Бегут фонарики, слышно тяжелое дыхание лошади, увязшей в вязком болоте, шлепанье шагов, и опять двигаемся дальше. Хлещет дождь, от ветра скрипит глухой сосновый лес, и при каждом пылании зарниц видно крестьянина, поддерживающего дымный, трепещущий от усталости бок своей лошади, и чье-нибудь белое сонное лицо, мокрое от грозы. И оно тухнет.
Не стоит описывать подробно утро следующего дня: оно как и все дни отступления. Случайный сон под стогом отсырелого сена, боль в стертых ногах, неугомонные шуточки солдат, особенно когда они острят, сидя на задке походной кухни – место отдыха, занимаемое всеми по очереди. Прямая, сосредоточенно шагающая, молчаливая жена товарища Шеймана. Не видит, не слышит, ни с кем не говорит. Голова в белом платочке, не оборачиваясь, плывет на фоне мертвых осенних полей. Она еще не знает наверное, жив или убит, но предчувствие сильнее с каждой минутой – видно, как оно овладевает ею все крепче и жесточе. Чужим делается тяжело от ее затаенной, проклятой уверенности. Наконец – Волга, переправа, станция, сон на полу холодной, продувной теплушки. Еще сутки, потерянные на мокрых пустых дорогах. Утром – толчок, скрип колес, долгожданное, милое дергание – и через час мы в настоящем Свияжске. И в Свияжске их нет. В комендатуре толчея, разговоры, расспросы…
И вдруг какой-то лихой комендант озлобленно плюет на открытую рану. «Ну ваш-то наверное цел – напрасно беспокоитесь. До Парижа успел добежать». Через минуту он стоит, облитый горячим чаем, красный, удивленный и злой, но это ничего не меняет. Все окрашивается в черный цвет, во всяком вопросе чудится обидный намек. Наконец приходит телеграмма, что Ф. Ф. взят в плен белогвардейцами. Мелькает еще раз каменное бескровное лицо Шейман. Ее муж действительно убит.
Тут мы с Мишей и решаем идти обратно в Казань. Товарищ Бакинский пишет на крохотной папиросной бумаге пропуск через все наши линии. И, лукаво подмигнув голубым глазом: «Пойдете, – говорит, – к командиру Латышского полка, он вам, наверное, даст двух лошадей до передовой линии. А оттуда уж пойдете пешком…» И правда, латыши помогли… Помогла и маленькая ложь: пришлось сочинить, что Раскольников тоже латыш, не совсем, но по матери. Достали мне шинель, штаны, сапоги, вывели кавалеристы двух лошадей, но, боже мой, как на нее сесть, на эту буйную тварь? Справа или слева, – и что делать потом с ногами, к которым не без умысла привинчены гр омаднейшие шпоры? Поехали шагом – ничего. Потом рысью – мучение и страх. А проехать надо все сорок верст.
Читать дальше
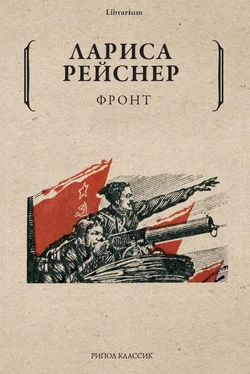

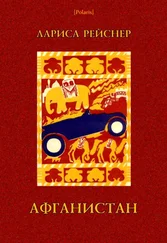





![Елена Майорова - В огне революции [Мария Спиридонова, Лариса Рейснер]](/books/400979/elena-majorova-v-ogne-revolyucii-mariya-spiridonova-thumb.webp)