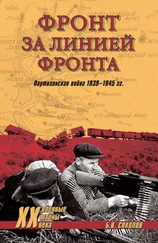Читая в наши дни великую деятельницу русской революции, можно вспоминать о ней многое: поездки с Троцким и установку художественных инсталляций; сохранение памятников старины и готовность создавать женское движение на Востоке; оборону Свияжска и разведку в белой Казани; большой поэтический талант и гениальность в дружбе и любви. Но что бы мы ни вспомнили, – оно будет как будто для нашего времени, времени новых кризисов и вызовов. Помещать Ларису Рейснер в любой пантеон великих женщин будет безвкусицей, а перечитывать ее – школой не только честной политики, но и безупречного вкуса.
Александр Марков, профессор РГГУ
В Москве есть большие, грязные, обширные здания, в которых учатся тысячи солдатских, рабочих и крестьянских детенышей. Им скверно живется в переполненных общежитиях, и воздух их аудиторий гуще, зловоннее, сырее воздуха, которым дышало старое студенчество, шагавшее по бесконечному и солнечному коридору Петербургского университета, – эти новые люди, которые – «левой», «левой», «левой» – в несколько курьерски быстрых лет должны одолеть всю старую буржуазную культуру, и не только одолеть, но и переплавить ее лучшие, нужнейшие элементы в новые идеологические формы, эти новые люди рабфака – завтрашние судьи, наследники и продолжатели этого десятилетия.
Революция бешено изнашивает своих профессиональных работников… Еще немного лет, и из штурмовых колонн, провозглашавших социальную революцию в Октябре великого года, дравшихся под Петербургом и Казанью, под Ярославлем, Варшавой, на Перекопе и в Прикаспийской пустыне, в Сибири и на Урале, под Архангельском и на Дальнем Востоке, не останется почти никого… И новую пролетарскую культуру, наше пышное Возрождение будут делать не солдаты и полководцы революции, не ее защитники и герои, а совсем новые, совсем молодые, которые сейчас, сидя в грязных, спертых аудиториях рабфаков, переваривают науку, продают последние штаны и всей своей пролетарской кожей всасывают Маркса, Ильича…
Это буйный, непримиримый народец материалистов. Из своей жизни, из своего миросозерцания он со спокойным мужеством выкинул все закономерности и красоты, все сладости и мистические утешения буржуазной науки, эстетики, искусства и мистики. Скажите рабфакам «красота», и они – свищут, как будто их покрыли матом. От «творчества» и «чувства» – ломают стулья и уходят из залы. Правильно.
Но, освистывая и осмеивая буржуазный сантимент, вы, молодые, вы, пролетарские дети, не попадитесь в старую буржуазную ловушку, отлично пережившую эти годы и защелкавшую старыми пружинами. Если нет для вас буржуазно-индивидуалистических любвей, порывов и вдохновений, то есть Бессмертие этих только что отпылавших, в тифозной и голодной горячке отбредивших лет.
Это эстеты из «Аполлона», это утонченные знатоки и любители российской словесности брезгливо морщились от величавой и голой бабы Венеры. Они же зажимают нос от революции. Говорить такие пошлые, первобытные слова, как – «героизм» – «братство народов» – «самоотвержение» – «убит на посту»! Ах, да не только говорить, но и делать все эти грубо-прекрасные вещи, от которых у человека с хорошо воспитанным вкусом сосание под ложечкой начинается! Вот примеры: стайка кораблей, несколько десятков обшитых в железо барж и буксиров, двадцать тысяч кронштадтской и черноморской матросни, составляющей ее команды. Чтобы драться три года, чтобы с огнем пройти тысячи верст от Балтики до персидской границы, чтобы жрать хлеб с соломой, умирать, гнить и трястись в лихорадке на грязных койках, в нищих вошных госпиталях; чтобы победить, наконец победить, сильнейшего своего, втрое сильнейшего противника, при помощи расстрелянных пушек, аэропланов, которые каждый день валились и разбивались вдребезги из-за скверного бензина, и еще получая из тыла голые, голодные, злые письма… Надо было иметь порывы, – как вы думаете? Надо было изобрести слова, которые побеждают прирожденную, неизбежную трусость мяса, своей крови, своей тонкой человечьей кожи, которую легко проткнуть любым ржавым гвоздем?
Красная вода так легко вытекает, и все кончено. Надо было видеть за кровью и грязью, за томительными столами Соцобеза, который даже вот резиновой не даст за свою, оторванную, который по приемным и прихожим измает бабу, если завтра его, матроса миноносца «Карл Либкнехт», имеющего красное знамя, разольет и размажет в кашу на грохнувшей под снарядом палубе. А умирать? Без поповского бога и черта, которые все вывелись от революции, без всей утешительной лжи. Только успеет сказать «мои сапоги – тебе» и перестает быть.
Читать дальше
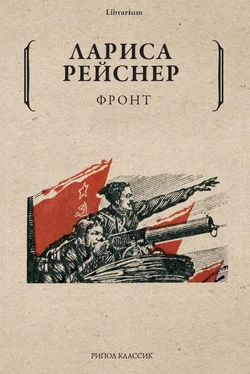

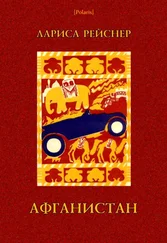





![Елена Майорова - В огне революции [Мария Спиридонова, Лариса Рейснер]](/books/400979/elena-majorova-v-ogne-revolyucii-mariya-spiridonova-thumb.webp)