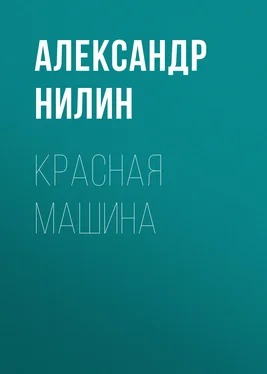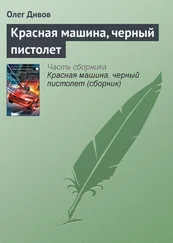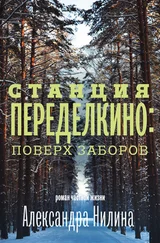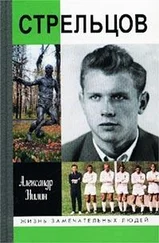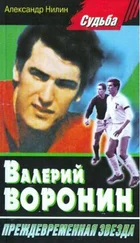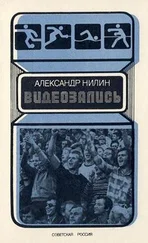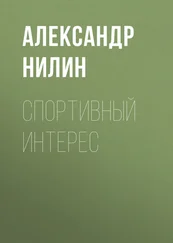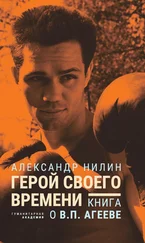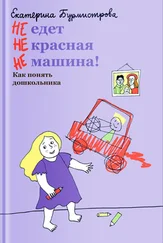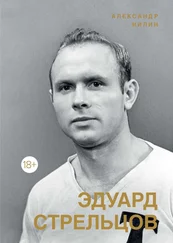Однако справедливости ради заметим, что Николай Подвойский был человеком на самом деле идейным. И как бы мы к идеям тем ни относились, нельзя не признать, что большевики такого склада к порученному делу подходили как к делу жизни.
Позиция, как бывает в шахматной партии, упрощалась. Власть прореживала общество. От сложности и психологизма намеренно отказывалась. Руководить удобнее одноклеточными – и темы, разумеется, кто готов был таковыми себя представить.
Вместе с тем у большевиков было и благое намерение – относительно, конечно, благое. Отобрав у буржуазии не только материальные, но и духовные и художественные ценности, ими распорядиться, а не уничтожить. Что, правда, случилось в последующие десятилетия.
Двадцатые годы – расцвет театра. Хлеба недоставало – значит, народу следовало дать побольше зрелищ.
Спорт как зрелище в жизнь России уже вошел. Большевики не вполне осознавали его элитарность, но возможности в качестве массового зрелища понять сумели.
Идеологические перспективы спорта вряд ли вполне открывались властям, но что-то им, несомненно, мерещилось. И не случайно спорт возводился декретами в ранг государственной политики.
Под маркой Всевобуча два года подряд проходят парады на Красной площади.
А в двадцатом году по инициативе все того же Всевобуча отмечается Всероссийский день спорта.
Сегодня спорт больших достижений никто и в шутку не отождествляет со здоровьем. Высокая тренированность совершенно не означает, что организм чемпиона или рекордсмена здоров. Ранние недуги и смерти выдающихся спортсменов перестали быть неожиданностью.
Но в начале века здоровье призового атлета кто бы подверг сомнению?
В спорт шли здоровяки.
В спорт шли ради здоровья.
И большевики увидели в спорте программу здоровья в завоеванной ими стране.
Страна с богатырским имиджем понесла серьезнейшие потери. И главные пришлись не на германскую кампанию, а на гражданскую войну, в которой Россия потеряла шестнадцать миллионов. Более четырех миллионов – и, поверьте, не худших, а самых породистых людей, цвет нации, – унесла эмиграция.
Россия остро нуждалась в здоровых людях.
Людях, к тому же готовых к защите отечества, рассорившегося со всем миром. Вот почему первым руководящим и организующим органом физкультуры и спорта и стал Всевобуч.
Вслух и в лозунгах все, связанное с буржуями, порицалось. Но грех бы не воспользоваться опытом российского спорта в армии – а он был здорово в ней поставлен. Грех было не развивать в новых условиях культивируемые при царе спортивные дисциплины: лыжи, коньки и хоккей, водные жанры: греблю, плавание, водное поло; поднятие тяжестей, бокс, отделенную от цирка борьбу (она включена была в программу подготовки инструкторов спорта), легкую атлетику и, конечно же, футбол…
3
Мы переживаем поражения в футболе с таким трагизмом, как будто считаем себя родоначальниками этой игры и генетически обязаны в ней первенствовать.
Но, пожалуй, есть на то свои резоны.
Англичан-футболистов (любителей, разумеется) в России полно было до самой революции – и не случись она, неизвестно, как скоро бы добились российские игроки суверенитета.
Впрочем, засилье англичан в первых российских футбольных командах порождало неожиданный эффект.
В перенесении игры на отечественную почву наши спортсмены проявляли себя весьма строптивыми учениками и ни в какую не соглашались превращаться в футбольную колонию.
Примеров яростного противостояния учителей и учеников – великое множество: англичане не могли смириться с тем, что новички все время выказывают гонор и переиначивают футбольные манеры на свой лад.
Насаждать футбол в России англичане начали в фабричном центре Орехово-Зуево, распадавшемся сначала на два селения: относившееся к Владимирской губернии Орехово и относившееся к губернии Московской Зуево.
Специалисты из Англии понаехали гуда еще в первой половине XIX века и уже в конце восьмидесятых годов попытались в старообрядческом поселении, где построили свои хлопчатобумажные фабрики братья Морозовы, организовать регулярные футбольные матчи. Среди своих, разумеется, – местные в расчет не брались. Ничего из этого не вышло. Но упрямое семейство Чарноков спустя десятилетие повторило свою попытку – и снова провал.
Лишь в начале XX века текстильный край снизошел к футболу. Братья Морозовы, кстати, противились игре из старообрядческих принципов.
Читать дальше