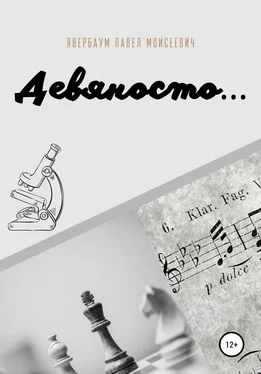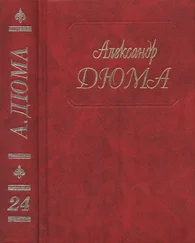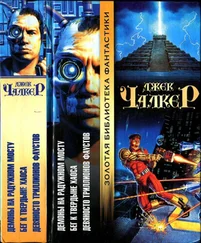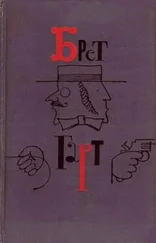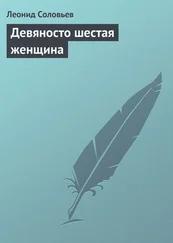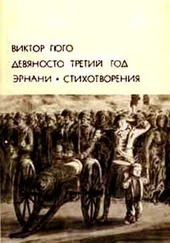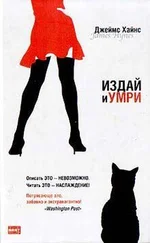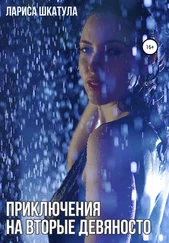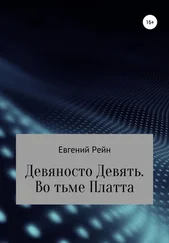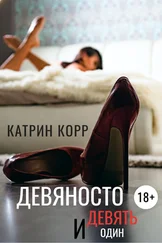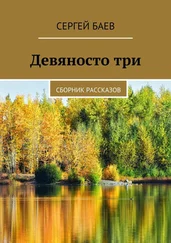Эмма Моисеевна Лифшиц стала отличным хирургом, кандидатом медицинских наук, принимала участие в войне с белофиннами, затем работала ассистентом кафедры госпитальной хирургии Иркутского мединститута. Её сестра Фрида Моисеевна была замечательным организатором здравоохранения, в последние годы жизни заведовала оргметод. кабинетом в областной больнице.
Макс Яковлевич Баренбаум был аптечным работником в Советской армии и в последнее время заведовал аптекой в Областной больнице.
И еще в памяти осталась одна женщина-врач – Гутя (так звала её моя мама) Новомейская. Совсем недавно, читая прозу известной писательницы Дины Рубиной «Медная шкатулка», 2015 г., я прочел большой рассказ «Баргузин». В посёлке Баргузин, расположенном на восточном побережье озера Байкал, проживало много евреев, высланных царским правительством из центральной России и Польши, в том числе и большая семья Новомейских. В начале 1920-х годов все Новомейские уехали кто куда, и глава клана в итоге оказался в Палестине. Моисей Новомейский стал основателем химической промышленности Израиля. Может быть, врач с такой фамилией в конце 30-х годов оказался в Черемхово! Да и фамилия Майзель (эту фамилия прадеда Дины Рубиной) была у хирурга, работавшего в факультетской клинике Иркутского мединститута в конце 30-х годов.
О моем папе. Мой отец родился в Иркутске в 1902 году. В 1929 году окончил медицинский факультет Иркутского государственного университета, после чего работал в г. Черемхово дерматовенерологом. В 1936 г. он переехал в Иркутск, где проработал 40 лет, до конца своих дней. Его корни уходят в Польшу, в городок Луков Седлецкой губернии, на территории которой где-то с XVI века проживала большая еврейская община.
Папа был первым из Явербаумов, получивших высшее образование. В годы Великой Отечественной войны он служил начальником эвакогоспиталя 1476 в г. Иркутске, который был развёрнут в помещении финансово-экономического института. В 1943 и 1944 гг. им получены две телеграммы верховного Главнокомандующего Советского Союза И.В. Сталина за самоотверженную работу и шефскую помощь Красной Армии. В 1946 г. за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны получил благодарность от наркома здравоохранения А.Т. Третьякова.
Отец был умным, жизнерадостным человеком. Он любил детей. Маленьких мальчишек и девочек он всегда, возвращаясь с работы, угощал конфетами, шутил с ними, дети к нему прямо-таки «липли». Достаточно хорошо характеризует отношение отца к людям следующее событие (эту историю в интернете в 2015 году – удивительно случайно нашла моя невестка – жена младшего сына – Петра – Оксана).
В международном литературно-культурологическом издании «Зарубежные задворки» 5/1, май, 2009, День Победы, вышла статья Владимира Кремера, который во время войны был с матерью эвакуирован в Иркутск. Владимиру было тогда 5 лет. Его мать работала в канцелярии госпиталя.
«Зимой 1943 года мама заболела крупозной пневмонией. Она лежала дома практически без помощи, с температурой под 40, иногда в бреду, а я, пятилетний, плакал и просил её не умирать. На второй день пришли двое солдат с носилками и одеялами (был сильный мороз) и сказали, что начальник госпиталя приказал доставить маму. Её унесли, а я остался один, и меня забрала мамина подруга, жившая вблизи нас. Начальник военного госпиталя Моисей Яковлевич Явербаум был добрым и обаятельным. Мы были знакомы семьями, и они с женой предлагали забрать меня в свою семь до нашего возвращения в Москву, считая, что так будет легче маме и сытнее мне. У них было двое детей, и они искренне готовы были взять меня третьим ( у моих родителей был один сын – это я, а второй ребенок, вероятно, была соседская девочка – Тамара Белорусова – П.М .) Надо отдать себе отчет в том, что М.Я. Явербаум в качестве должностного лица приказал положить в военный госпиталь человека гражданского, не имеющего на это никакого права. Эра антибиотиков в то время ещё не наступила, пневмонию лечили сульфидином, который шел на вес золота. И, наконец, в госпитале не было женских палат. Было приказано положить маму в маленькую одноместную палату, смежную с 10-местной офицерской, куда обычно выносили агонирующих. Её начали лечить сульфидином, который был строго учетным и потому его было необходимо на кого-то списывать. Не подлежало сомнению, что в случае доноса начальник госпиталя по законам военного времени шел под трибунал…».
В 2016-м благодаря этой статье невестка Оксана нашла Владимира Кремера через интернет, он теперь живет в Германии. Они списались и, когда Владимир был в Москве в 2017-м, мы встретились с ним и его женой Ольгой. Владимир и Ольга тоже врачи. Мы был знакомы с ним, когда мне было 11, а ему 5–6 (я, конечно, это плохо помню)! И вот такая невероятная встреча произошла у нас через 74 года. При встрече Владимир рассказал, что его мать всегда вспомнила, как мой отец спас ей жизнь, как, оказывается, помог вернуться в Москву из эвакуации, когда у нее не хватало денег на билет – отправил сопровождать раненного солдата, оформив командировку, а на билет сыну ей хватило денег.
Читать дальше