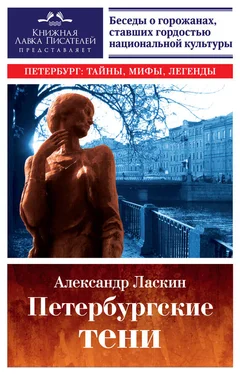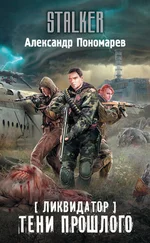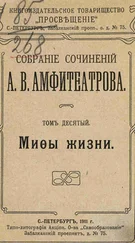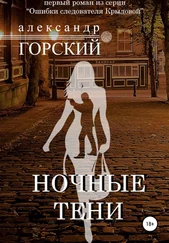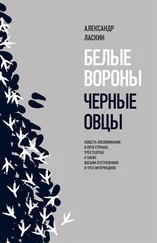Я провела несколько дней в Вашингтоне. В Пасхальное воскресенье отправились в храм. Вашингтонская церковь стоит на холме. Такая американская Нередица… Всю жизнь я хожу в церковь в этот день, но у нас этот праздник проходит уж очень деловито. А тут как в театре. Женщины с цветами, маленькие дети с иконками в руках…
Думаете, уже финал? Не тут-то было. У меня была такая знакомая – Нина Нератова. В юности отличалась необыкновенной красотой. Среди наших студентов именовалась не иначе как «мадонна ВАХ». ВАХ – Всероссийская Академия художеств. Когда я поступила, она уже защищала диплом у Осмеркина. Еще в студенческие годы вышла замуж за архитектора Ивана Нератова… До войны Нератов участвовал в проектировании Дома Советов.
Нератов на фронте пропал без вести, и Нина опять вышла замуж. Это было уже замужество без страстей. Но зато второй муж устроил ей быт, хорошо относился к ее сыну. Потом умер и он. Нина осталась одна, жила на площади Искусств, в том доме, где находилась «Бродячая собака», только на самом верху… Мне нравилось к ней ходить. Нас связывали воспоминания. И квартира была примечательная. Книг немыслимое количество… Говорили обо всем. А об Иване ни словечка. Я даже не знала, что он вдруг объявился.
После моего возвращения из Америки Нина вдруг сама начала: «А теперь, Зоя, я должна рассказать…» Тут-то я узнала, что Иван не погиб, а попал в Америку, жил в Вашингтоне. Очень преуспевал, много строил, постоянно присылал ей посылки. Так и не женился… Наступает самый главный момент. Она показывает мне фотографию церкви, построенной по его проекту. Я ее сразу узнаю. Это та самая американская Нередица. «А ты знаешь, – говорит она, – что Иван умер, расписывая свод этого храма. Его нашли мертвым на лесах».
АЛ:Вот видите, как бывает. Все сошлось.
ЗТ:Да, как у Пастернака. «Судьбы скрещенья…»
АЛ:История, конечно, святочная, но эпоха страшноватая. И понять ее до конца может лишь тот, кто через это прошел. В сравнении с этим опытом даже эмиграция покажется санаторием.
ЗТ:Все же я вспоминаю это время с благодарностью. Особенно войну. До этого я была маминой и папиной дочкой, это была жизнь не моя, а родительская. А в войну я почувствовала себя самостоятельным человеком. Конечно, тут имеет значение возраст. В восемнадцать лет все необыкновенно интересно.
Что же касается эмиграции, то тут я могу вспомнить то, что слышала от Анны Андреевны. Был такой знаменитый концерт в Колонном зале. Сначала на сцену вышли чуть ли не семьдесят разных поэтов. Все по ранжиру, в соответствии со своей значимостью. Ахматова и Пастернак в самом конце. Семьдесят человек не вызвали никаких особых чувств, а когда появились эти двое, зал поднялся. Анна Андреевна, повернувшись к Борису Леонидовичу, сказала: «Дорого нам обойдутся эти овации»… После концерта собрались у Пастернака. Звонит Вертинский и просит разрешения приехать. Спрашивают Ахматову, она милостиво кивает: «Да, конечно». Когда Вертинский явился, застолье было в разгаре. Александр Николаевич берет слово и произносит: «Я хочу выпить за Родину. Кто, как не я, имеет право на этот тост». Пастернак на это говорит: «Вы – г.» Именно так, не полным словом, а одной буквой. Вертинский растерян, смотрит в сторону Анны Андреевны, но та кивает: «Да, да…»
АЛ:Может, это у него был такой «номер»?.. Вскоре в ответ на слова Всеволода Вишневского, предложившего тост «за советского поэта Пастернака», Борис Леонидович выскажется куда сильнее. Уши Александра Николаевича он поберег, а моряку Вишневскому сказал совершенно по-матросски…
ЗТ:Про Вишневского не скажу, а с Вертинским мне все ясно. Неслучайно Александр Николаевич потом сам пересказывал эту историю другим. Причем удивлялся, скорее, себе. Он не только осознал, что случилось, но, возможно, с этого момента ему вообще все стало ясно.
АЛ:Все-таки одно дело – петь в шанхайском ресторане, а другое – сидеть дома и смотреть на внезапно замолчавший телефон.
Не очень уверен, что так оно и было. Хотя человек, который рассказал мне эту историю, божился, что знает ее из первых уст.
Речь об Алисе Георгиевне Коонен и Александре Яковлевиче Таирове. О том, что произошло в их жизни после того как закрыли Камерный театр.
Если все-же достоверность не абсолютная, то тогда это просто другой жанр. Не историческая новелла, а притча.
О чем притча? Об искусстве, отменяющем гибель. О том, что все убитые на сцене непременно выйдут кланяться и получат от зрителей груды цветов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу