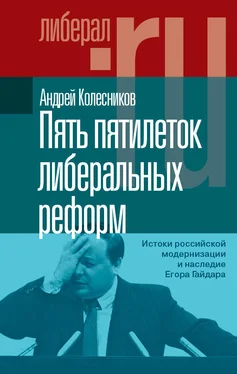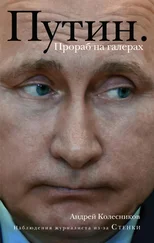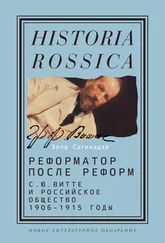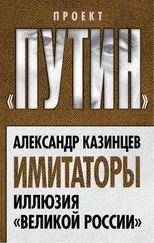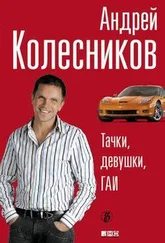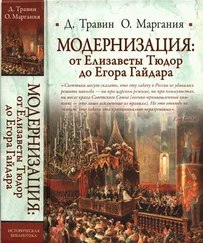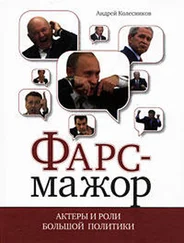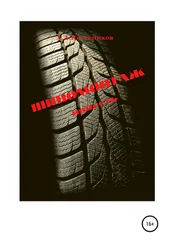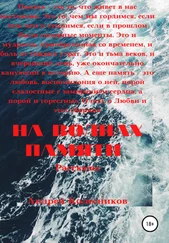Питерская команда постепенно расширялась. И за счет официальных семинаров, и благодаря более узким и более содержательным встречам. По словам Сергея Васильева, на закрытые встречи приглашались Оксана Дмитриева, которая потом разошлась с командой, а впоследствии и вовсе стала ожесточенным врагом Чубайса; Александр Вартанов (однокурсник и друг Васильева); Сергей Игнатьев, будущий председатель ЦБ РФ, знакомый Ярмагаева, ленинградец, учившийся в аспирантуре в МГУ, знавший западную экономическую литературу на уровне Гайдара и написавший диссертацию по инфляции в Югославии; Михаил Дмитриев, более молодой, чем все остальные «кружковцы» из все той же Проблемной лаборатории Финэка. Через пару лет он примкнет к кругу более радикальных и молодых экономистов – ленинградскому клубу «Синтез» (о нем речь впереди), который выйдет за пределы парадигмы «совершенствования хозяйственного механизма». В этой парадигме, по мнению самого Дмитриева, Гайдар находился слишком долго.
Сергей Игнатьев, скромный, молчаливый, немного закрытый от мира стеклами сильных очков и сигаретным дымом, считался наиболее начитанным из всех молодых экономистов, особенно в том, что касалось не в целом гуманитарной, а именно экономической литературы. Поначалу он входил в своеобразный кружок, группировавшийся вокруг лаборатории ценообразования Финэка. Знакомство с чубайсовцами, а затем работа с гайдаровцами была важной для будущего председателя Банка России: «Мне очень хотелось публиковаться, а у Толи была возможность печатать статьи в сборниках инженерно-экономического института. В частности, статья, где сравнивались одноуровневая и двухуровневая банковские системы, появилась именно в одном из этих сборников. Честно говоря, я не видел разницы между официальными и неофициальными семинарами – и то и другое мне было в равной степени интересно. Гайдар был моим вторым издателем – очередная статья появилась в сборнике ВНИИСИ. Третьим издателем – в журнале „Эко“ – был Петр Филиппов».
В декабре 1984 года Григорий Глазков поступил в аспирантуру ЦЭМИ и получил возможность расширять круг общения с большим числом экономистов.
Центральный экономико-математический институт за два десятилетия своего существования стал легендарным местом. Легендарна была даже архитектура: здание ЦЭМИ с «ухом» на фасаде (хотя это была на самом деле железобетонная лента Мёбиуса – по ней советская экономика и ходила в своей математической безнадежности) было спроектировано архитектором Леонидом Павловым, который говорил: «Архитектура измеряется не человеком, а требованиями общественного развития». И построил ЦЭМИ как две налипающие друг на друга, словно намагниченные, пластины – одна для больших компьютеров (которые, пока здание строилось, уже устарели), другая – для тех, кто на них работает. Не случайно тот же архитектор примерно в то же время спроектировал еще одно здание для расчетов планомерного развития – кубическую фантазию Главного вычислительного центра Госплана СССР на Новокировском проспекте. А рядом с ЦЭМИ стояло здание ИНИОНа, библиотеки, в которую специально приезжали заниматься питерские экономисты, расширявшие пространство мышления не за счет математики, а благодаря гуманитарному знанию – удобное, просторное, светлое, с самыми свежими поступлениями западной научной литературы – пир духа!
В наши дни здание архитектора Павлова загородили, обступив и как будто взяв в плен, многоэтажные жилые дома. ИНИОН сгорел и был снесен, отчего возникло ощущение черной дыры. Потом, правда, библиотеку восстановили.
О Павлове, своем учителе в Архитектурном институте, и о его «ухе» писал поэт Андрей Вознесенский в прозаической поэме «О»: «Москвичи знают это плоское здание, как заслонка замыкающее Ломоносовский проспект. Это здание – Ухо». Вознесенский путает – называет ЦЭМИ Вычислительным центром. Но в этом есть своя правота: экономико-математическая школа в СССР дала только вычисления, остались миллиарды цифр, исчез обсчитанный со всех сторон Советский Союз вместе со своей экономикой, которую обволакивали квадранты межотраслевого баланса. Может быть, поэтому в ЦЭМИ и не пошел работать Егор Гайдар – эта щебенка из цифр казалась ему неживой. Но! Восемнадцать молодых людей из ЦЭМИ, по подсчетам американского антрополога Адама Лидса, оказались в разных структурах правительства Гайдара. Значит, не прервалась связь времен.
«– Да никакое это не ухо, это лента Мёбиуса, – доказывает Павлов. – Это скульптурно-философская восьмерка… Я придал ему размер – одна миллионная диаметра земли… Поэтому вас и тянет к пропорциям этого квадрата – инстинктом человек чувствует соразмерность с Землею… Поглядите, какая гипнотичность пропорций фасадов».
Читать дальше