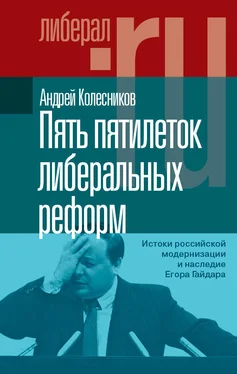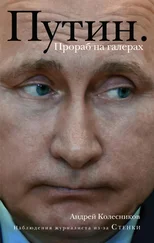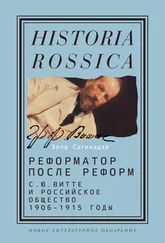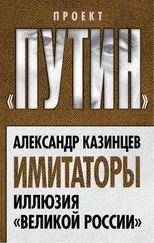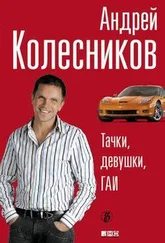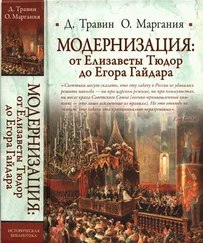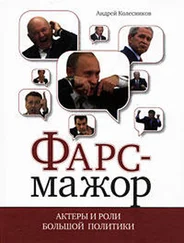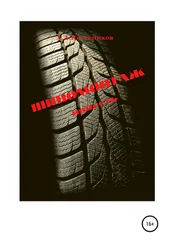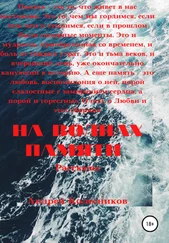Андрей Колесников - Пять пятилеток либеральных реформ. Истоки российской модернизации и наследие Егора Гайдара
Здесь есть возможность читать онлайн «Андрей Колесников - Пять пятилеток либеральных реформ. Истоки российской модернизации и наследие Егора Гайдара» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 2022, ISBN: 2022, Жанр: Биографии и Мемуары, История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Пять пятилеток либеральных реформ. Истоки российской модернизации и наследие Егора Гайдара
- Автор:
- Жанр:
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-2036-0
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пять пятилеток либеральных реформ. Истоки российской модернизации и наследие Егора Гайдара: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Пять пятилеток либеральных реформ. Истоки российской модернизации и наследие Егора Гайдара»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Распад Советского Союза стал среди прочего результатом отказа властей от рыночных преобразований. Промедление с реформами в 1980-х обусловило их радикальный характер в ситуации развала экономики уже постсоветской России в 1992 году. В книге Андрея Колесникова исследуется и оценивается интеллектуальная и политическая история российских либеральных реформ 1990-х в переплетении с биографией их главного архитектора Егора Гайдара. Радикальные преобразования стали авторским проектом Гайдара и его команды. Но при этом, как показывает автор, они были неизбежными и безальтернативными. Их окончательный успех зависел от того, насколько последовательным окажется развитие демократических институтов. Однако с годами политическая система приобрела авторитарный характер, а модернизация страны была остановлена. Что именно привело к такому итогу и возможны ли успешные реформы в России – на этот вопрос тоже пытается ответить автор. Андрей Колесников – эксперт Фонда Карнеги, бывший шеф-редактор «Новой газеты». Автор книг «Спичрайтеры», «Анатолий Чубайс. Биография», «Семидесятые и ранее», «Дом на Старой площади», а также книги «Диалоги с Евгением Ясиным», вышедшей в «НЛО». Лауреат Премии Егора Гайдара (2021) «за выдающийся вклад в области истории».