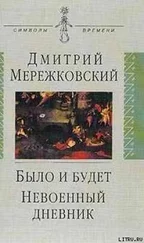Клер взглянула ему прямо в глаза и спросила: «Что это за художники? Жюлиан?» Лефевр на это: «Нет, Бастьен-Лепаж». А Клер ему: «Нет, сударь, вы совершенно заблуждаетесь: она почти не выезжает и чуть не все время работает. Что до Бастьен-Лепажа, она видится с ним в гостиной своей матери, а в мастерскую к ней он никогда не ходит».
Какое сокровище эта девочка, и ведь правду сказала; вы же знаете, о господи, этот чертов Жюль ни в чем мне не помогает. Да и сам Лефевр делал вид, будто верит в это! <���…>
Сейчас два часа; уже новый год; ровно в полночь я была в театре и, с часами в руке, загадала желание, которое заключалось в одном слове; это такое прекрасное, звучное, великолепное, упоительное слово, хоть пиши его, хоть говори.
Слава!
Пятница, 4 января 1884 года
Да, я чахоточная, и моя болезнь развивается. <���…>
Я больна, никто ничего не знает, но у меня каждый вечер лихорадка, и все идет вкривь и вкось.
Нет! Все так ужасно, все вместе, что мне даже досадно об этом говорить!
Суббота, 5 января 1884 года
Открытие выставки Мане в Школе изящных искусств! Еду туда с мамой. <���…>
Мане умер всего год назад. Я о нем знала совсем немного. Общее впечатление о выставке поразительное. Хаотично, ребячливо и грандиозно!
Есть безумные вещи, а есть великолепная живопись. Еще немного, и это был бы один из величайших гениев живописи. Изображенное им почти всегда безобразно, часто бесформенно, но всегда живое. Есть изумительные эффекты. Даже в самых неудачных вещах чувствуется нечто неуловимое, из-за чего смотришь, не испытывая ни отвращения, ни усталости. В этом сквозит такая самонадеянность, такое поразительное доверие вместе с не менее поразительным невежеством. Словно детство гения. А еще чуть не полные заимствования из Тициана (лежащая женщина и негр), Веласкеса, Курбе, Гойи. Но все эти художники воруют друг у друга. А Мольер? Он брал у других целые страницы, дословно, – я знаю, я читала. <���…>
Среда, 16 января 1884 года
<���…> Разве публика полюбила Милле, Руссо, Коро? Вернее, полюбила – когда они вошли в моду.
Позор нашей эпохи состоит в том, что люди просвещенные, но недобросовестные делают вид, что верят, будто в этом искусстве нет ни глубины, ни величия; зато они кадят «тем, кто следует традициям старых мастеров». Надо ли распинаться и доказывать всю глупость подобных рассуждений? Какое же тогда искусство называть великим, если не такое, которое, с душераздирающим совершенством изображая плоть, волосы, одежду, деревья, в то же время изображает души, умы, судьбы? <���…>
Воскресенье, 20 января 1884 года
<���…> У меня нет друзей, я никого не люблю, и меня никто не любит.
Друзей у меня нет потому, что (мне и самой это яснее ясного) я невольно даю почувствовать, с какой высоты «взираю на толпу». Никто не любит унижения. Могу утешиться мыслью, что люди, в самом деле превосходящие окружающих, никогда не были любимы другими людьми. К ним тянутся, в их лучах греются, но в глубине души их ненавидят и при первом удобном случае распускают о них клевету. Сейчас собираются ставить памятник Бальзаку, и газеты печатают воспоминания и рассказы друзей великого человека. Друзья такие, что может стошнить от омерзения. Наперегонки вспоминают любую неприятную черту, любую странность, любую низость. По мне, уж лучше враги: им хотя бы меньше веры. <���…>
Вторник, 11 марта 1884 года
Дождь.
Да не только в этом дело… Мне вообще тяжело… Все это так несправедливо. Небо меня гнетет…
Короче, я еще в том возрасте, когда даже умираешь с упоением. Мне кажется, я, как никто на свете, люблю все : искусство, музыку, живопись, книги, свет, платья, роскошь, шум, тишину, смех, печаль, меланхолию, шутку, любовь, холод, солнце; все времена года, всякую погоду, однообразные русские равнины и горы вокруг Неаполя; снег зимой, осенние дожди, весенние сумасбродства, безмятежные летние дни и прекрасные ночи со сверкающими звездами… все я обожаю, всем восхищаюсь. Все кажется мне интересным, возвышенным; я бы хотела все видеть, всем обладать, все обнять, со всем слиться и умереть, раз уж так надо, хоть через два года, хоть через тридцать, но умереть с восторгом, что позна́ю на опыте последнюю тайну, всеобщий конец или всеобщее божественное начало.
Эта любовь ко всему на свете – не восторженность чахоточной; я всегда была такая; помню, еще десять лет назад, в 1874 году, я перечисляла в дневнике радости всех времен года: «Я была бы не в силах сделать выбор, все времена года хороши, весь год, вся жизнь. Мне нужно все! Довольствоваться малым не буду. Нужна природа – перед ней все мелко. Короче, все в жизни мне нравится, все радует, и хотя я прошу счастья, но на самом деле благодарна и за несчастья. Тело мое плачет и стонет, но что-то во мне радуется жизни, несмотря ни на что!» <���…>
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу