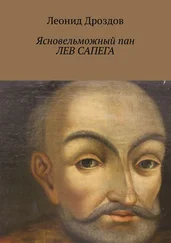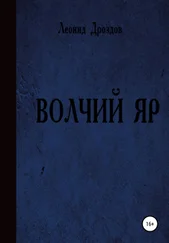Если перефразировать Шекспира (уж не взыщите, мой требовательный читатель, что получилось не очень художественно), вся наша жизнь — американские (а может быть, и русские!) горки. Порой томительно ждешь чего-то нового, неизведанного, необыкновенного и мучаешься, и гасишь в себе пожары откровенных желаний, стыдишься их, но жаждешь возгораться еще и еще, и грезишь чудесной вереницей событий, которые кардинально изменят ставшую слишком привычной и скучной жизнь. Потом медленно, напряженно, с ощущением, что вот-вот и откатишься назад, но с терпким предвкушением беспредельного счастья карабкаешься все выше и выше. И наконец — она, самая что ни на есть вершина, и нет больше рамок и границ, есть только простор и свобода. Но не успеваешь насладиться этим состоянием, как впадаешь в другое — стремительного полета в бездну. Организм перестает тебе подчиняться: сердце то замирает, растворяется где-то в загрудинном пространстве, то, распадаясь на части, вырывается наружу, с каждым ударом все больше просачивается на поверхность кожи и мурашками расползается по всему телу — и ты теряешь способность двигаться, мыслить, чувствовать. А после — очередной подъем, еще падение, несколько встрясок, переворотов и плавное скольжение до полной остановки. Так сказать, финишная прямая — и просим на выход…
В жизни Машерова тоже были взлеты и падения. Во всяком случае одно падение точно случилось в самом начале его партизанской карьеры. Это произошло с 20 мая по 21 июля 1942 года. Однако в трех других биографиях, на которые я позволяю себе часто ссылаться, эта история практически не нашла отражения. Если о каких-то событиях, произошедших в это время, и упоминается, то в основном скороговоркой, косвенно или вскользь. Кое-какие подробности можно найти только в воспоминаниях боевых товарищей Машерова: Разитдина Инсафутдинова и Геннадия Ланевского.
Именно тогда партизанский отряд Дубняка соединился с другим отрядом — «сергеевцами». Этому объединению предшествовало то обстоятельство, что оба отряда оказались обезглавлены. Петр Машеров был серьезно ранен, его обязанности исполнял Сергей Петровский. Сергеевский отряд тоже остался без командира: Сергей Моисеенко погиб в бою. После похорон перед строем комиссар отряда Р. Инсафутдинов новым командиром объявил Степана Корякина. Он также уточнил, согласны ли «сергеевцы» объединиться с партизанским отрядом Дубняка. Согласие бойцов было получено. Как видно, в самом начале партизанского движения демократия была в определенном смысле на высоте. Ничего серьезного не предпринималось без согласия бойцов.
И в 20-х числах мая 1942-го отряды, изъясняясь современным языком, интегрировались. По данным Р. Инсафутдинова, отряд Дубняка к этому времени насчитывал девятнадцать человек [112] Инсафутдинов Р. И. Указ. соч. С. 65.
. Точна ли эта цифра — сказать сложно. Мы знаем, что изначально в нем состояло пятнадцать человек. Затем к ним добавились Полина Галанова и ее подруга. Итого семнадцать. Имена еще двух бойцов неизвестны. Но возможно, комиссар Сергеевского отряда просто ошибся. По сведениям Геннадия Ланевского, по состоянию на 16 мая 1942 года в отряде Дубняка было тридцать два человека [113] Ланевский Г. А. Указ. соч. С. 55.
. Информация о численности Сергеевского отряда тоже разнится. Так, Р. Инсафутдинов утверждает, что в мае 1942-го в нем состояло больше ста — ста десяти бойцов [114] Инсафутдинов Р. И. Указ. соч. С. 60, 62.
(причем большинство кадровые военные, бойцы Красной армии, которые оказались в окружении). Каким образом после объединения отрядов получилось около 200, Р. Инсафутдинов не поясняет [115] Инсафутдинов Р. И. Указ. соч. С. 69.
. По словам Г. Ланевского, объединенный отряд насчитывал всего восемьдесят семь человек [116] Ланевский Г. А. Указ. соч. С. 72.
, иными словами, вдвое меньше. Объединение произошло вечером 19 мая 1942 года у деревни Мыленки, на границе между нынешней Литвой и Беларусью (сейчас эта деревенька относится к Верхнедвинскому району Витебской области). Отряд Дубняка переправился через Мыленское озеро (Лисно?) на десяти лодках. «Сергеевцы» прибыли к месту сбора на крестьянских подводах и пешим строем.
В своих воспоминаниях Р. Инсафутдинов с заметной досадой отмечал, что местные белорусские партизаны были вооружены гораздо лучше. У дубняковцев имелось несколько (!) пулеметов, в основном ручные пулеметы Дегтярева (РПД). Правда, с боеприпасами дела обстояли похуже. Для того чтобы укрепить боевое братство, руководители Сергеевского отряда С. Корякин и Р. Инсафутдинов сразу решили помочь им парой ящиков боеприпасов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
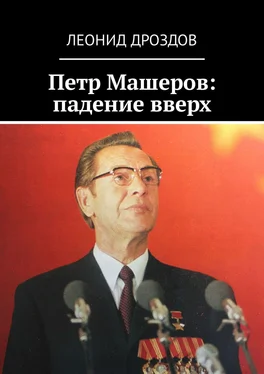

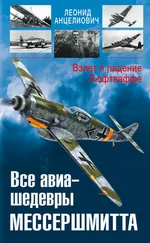

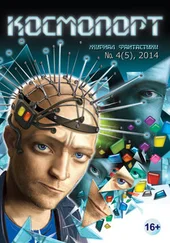

![Захар Петров - Муос. Падение [litres]](/books/414249/zahar-petrov-muos-padenie-litres-thumb.webp)