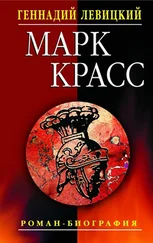В 1969 году, через год после того, как я окончил Городской колледж Нью-Йорка, я отправился на летние гастроли и тогда же влюбился в красивую молодую актрису.
Когда мы вернулись в Нью-Йорк, то переехали в маленькую квартирку в районе Гринвич-Виллидж, чтобы она могла продолжить учебу в колледже.
А училась она на театральном отделении довольно радикальной (тогда) Школы искусств Нью-Йоркского университета. Как студентка этого отделения она была должна пройти вечерний курс киносъемок, который вел (тогда) относительно молодой и почти неизвестный Эндрю Саррис. Однажды после занятий она пришла домой очень оживленной и сказала мне, что если я действительно хочу стать актером, то мне следует пойти и послушать, что этот человек говорит о кино. Я был настроен несколько скептически, поскольку пребывал в уверенности, что знаю все и обо всем (включая любовь), но согласился зайти на одно занятие – скорее для того, чтобы ее успокоить, чем из-за реального желания услышать, как кто-то еще будет читать мне лекцию о кино, о котором, как я верил, я уже знаю все, что мне нужно знать. Но в тот вечер, во вторник, на углу Одиннадцатой улицы и Второй авеню, в забитой студентами маленькой аудитории, с доской, проектором и раскатывающимся из трубочки экраном, моя голова совершенно пошла кругом, когда Саррис с большой страстью стал рассказывать о своей новой спорной методологии кинокритики, которая называлась теорией авторского кино.
Словно атомная бомба взорвалась в моем мозгу, когда он заговорил о том, что кино – это не театр, записанный на пленку, не драматизированный роман, не разыгранная в лицах историческая реконструкция, не ожившие картины, но свое, особое искусство. Это было невидимое искусство или, как он выразился, «невизуальная среда». Это означало, что личность художника – в данном случае режиссера – не была видимой, а материализовалась в силе и стиле его режиссуры. Он говорил, что картину нужно рассматривать саму по себе, и по этой причине то, о чем фильм, куда менее важно, чем то, как рассказывается эта история, а содержание этой истории гораздо менее захватывает, чем стилистический контекст. По этой причине те американские фильмы, которые критика обычно относила к нижней части киномассива, нужно переоценить и найти им новое место. При этом теория авторского кино в его словах представала критической оценкой, а не художественным приемом – ни один режиссер никогда не мог и мечтать о том, чтобы стать подлинным автором фильма.
Слова Сарриса потрясли мою творческую душу. Он открыл мне глаза на то, что было великолепно не только на экране, но и за его пределами. Он был красноречивым, красивым, проницательным, страстным и глубокомысленным, он вдохновлял меня, как любая песня Боба Дилана, Фила Оукса, Дэвида Блу, Джоан Баэз или любого другого фолк-кумира моего подросткового возраста. В тот вечер я впервые осознал, что есть кино на самом деле, и оценил силу этого искусства. На стадии перехода от анализа работ других авторов к написанию своих собственных Эндрю Саррис попал в число тех людей, которые оказали на меня самое большое влияние. (Пять лет спустя, когда Саррис оказался моим профессором в Школе искусств Колумбийского университета, мы не только образовали пару наставник – ученик, но и стали хорошими друзьями.)
Я все еще слушал лекции Сарриса в Нью-Йоркском университете (а теперь я их добросовестно посещал каждую неделю), когда ко мне прибежал мой друг по колледжу Джо Шнайвайс. Его очень взволновал фильм, который он посмотрел на выходных. Это была лента «За пригоршню долларов». Джо буквально за рукав пальто потянул меня туда, где показывали этот фильм, чтобы я смог увидеть его сам.
Я посмотрел этот фильм, и он мне очень понравился. Джо был прав: эта картина была не похожа ни на что из того, что я видел в кино раньше. Ее герой, Человек без имени, сыгранный Клинтом Иствудом, был первым крутым парнем, которого я видел на большом экране и который был похож на настоящих крутых парней, знакомых мне по Бронксу. Он не был чопорным, он не читал стихов, не скакал на белом коне, словно рыцарь в сияющих доспехах, и ему было все равно, кого (или как) он убил. Он мог сражаться и ездить верхом; он был большим, сильным и абсолютно правдоподобным. Как этого достигли в фильме? Для меня это было непостижимо. Его характер был новым, другим и оригинальным, его лицо я не мог забыть. Я еще не понимал, как он и Серджо Леоне это сделали, но, несомненно, почувствовал интуитивную связь, установившуюся как с персонажем, так и с актером, который его сыграл. Со времени появления Джеймса Дина в фильме Джорджа Стивенса «Гигант» (1956) ни один из актеров на экране и персонажей, которых они играли, не рассказал мне так много обо мне самом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

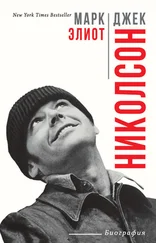
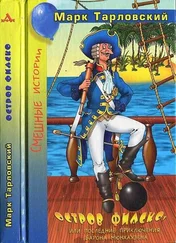



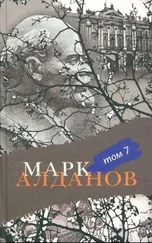


![Марк Берроуз - Магия Терри Пратчетта. Биография творца Плоского мира [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/435746/mark-berrouz-magiya-terri-pratchetta-biografiya-tvor-thumb.webp)