Это было уже слишком. «У меня нет ни малейшего намерения отпускать вас, – написал Черчилль в ответ. – Для меня станет жесточайшим ударом, если вы станете упорствовать в столь ужасных и недостойных планах». Порой письмо Черчилля больше напоминает послание отвергнутого влюбленного, чем депешу премьер-министра. «В разгар такой войны вы не имеете права перекладывать на меня свои тяжелые обяз-сти, – писал он. – …Никто не знает лучше вас, как сильно я завишу от ваших советов и утешений. Не верится, что вы так поступите». Если здоровье Бивербрука этого требует, надо взять несколько недель отпуска, чтобы восстановиться, предложил он. «Но покидать корабль сейчас – ни за что!» [824] Gilbert, War Papers , 3:35.
В полночь Черчилль снова написал Бивербруку, на сей раз уже от руки – призывая на помощь образ суда истории: «Среди мелких неудовольствий вы не должны забывать колоссальный масштаб событий и то, что мы стоим на ярко освещенной сцене истории». В конце он привел фразу, которую Жорж Дантон, один из вождей Великой французской революции, вслух сказал сам себе за несколько мгновений до того, как его гильотинировали (в 1794 году): «Не надо слабости, Дантон» [825] Churchill to Beaverbrook, Jan. 7, 1941, BBK/D, Beaverbrook Papers.
.
На деле эта стычка с Бивербруком больше походила на сценическое фехтование. Они давно дружили, и каждый отлично знал, как нарушить душевное равновесие другого и когда остановиться. Это была одна из причин, по которым Черчиллю нравилось само наличие Бивербрука в составе правительства и по которым он так ценил его почти ежедневное присутствие рядом. Бивербрук всегда отличался непредсказуемостью. Да, он мог раздражать, зато он неизменно служил источником энергии и хладнокровной ясности восприятия, а его ум был подобен могучей грозе. Они оба с немалым удовольствием диктовали письма друг для друга. Для обоих это было нечто вроде лицедейства: Черчилль расхаживал в своем халате с золотым драконом, тыча в воздух потухшей сигарой, наслаждаясь звучанием и ощущением своих слов; а Бивербрук вел себя как цирковой метатель ножей и словно бы норовил запустить в пространство любые столовые приборы, какие окажутся под рукой. Стилистические особенности писем, выходивших из-под их «пера», отражали разноречивые характеры двух друзей. Черчилль писал длинными абзацами, тщательно подбирая слова, используя сложные грамматические конструкции и отсылки к истории (в одной записке, адресованной Бивербруку, он употребил слово «ихтиозавр»), тогда как каждый абзац Бивербрука был как резкий тычок ножом, лезвие которого иззубрили короткие, хлесткие слова. Он не упивался своим текстом, он выплевывал его.
«На самом деле им обоим это нравилось – и, конечно, ни тот ни другой не считал написание (точнее, обычно – диктовку) писем каким-то тяжким трудом, – писал Алан Тейлор, биограф Бивербрука. – В частности, Бивербрук любил при этом выставлять напоказ свои невзгоды, а еще больше он любил смаковать проявления эмоциональной привязанности, которую он в этот момент действительно испытывал – пока диктовал письмо» [826] A.J.P. Taylor, Beaverbrook , 465.
.
Эта первая неделя 1941 года закончилась на более позитивной ноте, чем начиналась, так что в два часа ночи 7 января, в понедельник, Черчилль улегся в постель, находясь в неплохом расположении духа. Из Ливии опять поступили хорошие новости: британские войска продолжали громить итальянскую армию. А Рузвельт в понедельник вечером (в Англии было самое начало вторника) выступил с ежегодным обращением «О положении в стране», в котором он представил конгрессу свой план ленд-лиза, провозгласив, что «будущее и безопасность нашей страны и нашей демократии чрезвычайно зависят от событий, происходящих вдали от наших границ». Он описывал грядущий мир, в основе которого будут лежать «четыре главные человеческие свободы» – свобода слова, свобода вероисповедания, свобода от нужды и свобода от страха.
Черчилль осознавал, что в США предстоит долгая борьба за законодательное одобрение Акта о ленд-лизе, но его ободрило ясное публичное заявление Рузвельта о сочувствии Британии. Мало того: Рузвельт решил направить в Лондон своего личного представителя, которому предстояло прибыть уже в ближайшие дни. Поначалу имя этого человека ничего не говорило британскому премьеру: Гарри Гопкинс. Услышав его, Черчилль демонстративно переспросил: « Кто-кто? » [827] Sherwood, Roosevelt and Hopkins , 234.
Впрочем, теперь он понимал, что Гопкинс настолько близкий конфидент президента, что он даже проживает в Белом доме, в помещениях на втором этаже, некогда служивших офисом Авраама Линкольна, практически дверь в дверь с самим президентом. Брендан Бракен, помощник Черчилля, назвал Гопкинса «наиболее важным американским визитером из всех, какие когда-либо посещали нашу страну» и считал, что тот способен влиять на Рузвельта «сильнее, чем кто-либо из живущих» [828] Colville, Fringes of Power , 1:393.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






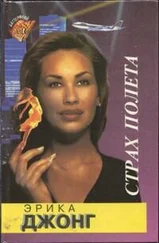
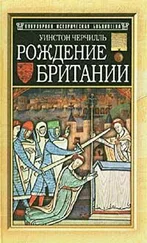
![Анджей Беловранин - Мир, поставленный на паузу. Страхи, надежды и реальность эпохи коронавируса [Страхи, надежды и реальность эпохи коронавируса] [litres]](/books/396498/andzhej-belovranin-mir-postavlennyj-na-pauzu-stra-thumb.webp)



