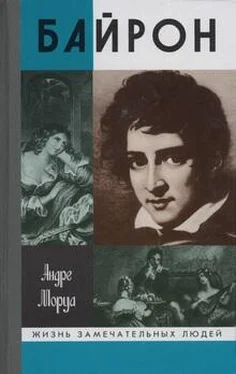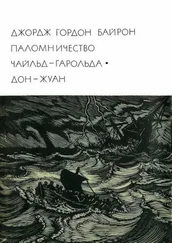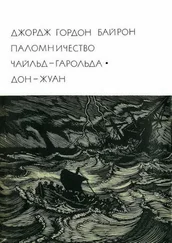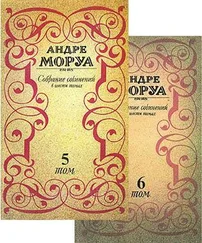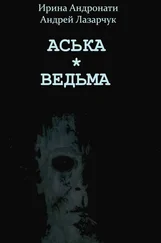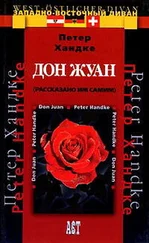И немного позже:
«Я снова повторяю вам, что гораздо лучше было бы объяснить мне все эти ваши тайны, чем продолжать эту нелепую манеру писать намеками. Что вы хотите сказать? Что такое могут узнать кругом, чего бы мы с вами не знали гораздо лучше и что вы могли бы спрятать от меня? Что касается меня, то я никогда не отступал, — я уступил для вас, потому что думал, что они будут пытаться вас скомпрометировать, хоть им и нет никакого дела до того, что было до моей женитьбы на этом адском чудовище, гибель которого я когда-нибудь да увижу». Письмо это было переслано леди Байрон с таким комментарием Августы: «Я не могу придумать письма грустнее — столько злобы, ненависти и горечи по отношению ко всем на свете, — его только и остается, что сжечь; в общем, мне ясно, что он недоволен собой, бедный мальчик». В этой женщине не было злобы, но она умела и муки преисподней перевести в детский лепет.
* * *
Во время своей болезни Байрон закончил третий акт «Манфреда»; он получился несколько сжатым (Байрон не умел, подобно Гёте, маневрировать большими массами сверхъестественного), но интересным своей философией. Манфред — перед лицом смерти. Аббат соседнего монастыря пытается примирить его с самим собой, может быть, эта сцена была эхом разговоров Байрона с монахами-армянами. Католический священник предлагает грешнику покаяние и прощение. «Я не говорю о наказании, сын мой (возмездие принадлежит только создателю), но церковь дает мне возможность облегчить грешнику дорогу к самой высокой надежде». «Слишком поздно, — отвечает Манфред. — Ничто не может изгнать демона, когда он — сама душа грешника. Никто не может отпустить грехи человека, внутри которого — Ад». Не с богом не может примириться Манфред, а с самим собой.
О мой отец! Я знал земные мысли
И доблестные юности порывы,
Они меня могли б таким же сделать,
Как все, — и я б зажег народы…
…Но все прошло,
И стало ясно — обманулась мысль,
И покорить свой дикий нрав не мог я…
…Со стадом не могу смешаться я.
Хотя бы вожаком и волчьей стаи;
Лев одинок — и я таков, как он…
В последней сцене духи, посланные адом, пытаются схватить и унести Манфреда. Он прогоняет их:
…В свой Ад вернись!
Ты власти не имеешь надо мной
И никогда владыкой мне не будешь.
Что сделал — сделано. Несу в себе
Такую казнь, что злее не измыслишь.
Бессмертный дух себе судья единый.
И за добро и зло он сам заплатит.
Не ты мой искуситель — ты б не мог
Ни обмануть, ни взять меня добычей,
Я сам свой разрушитель — и таким
И там я буду…
Таким образом, в первый раз Байрон, увлеченный Шелли в метафизические размышления, пробовал примирить непобедимое ощущение греха со скептической философией, не позволявшей принять ортодоксальные идеи ада и наказания. Он нашел поистине изумительное байроническое решение, сделав себя одного центром и сутью этой системы. Байрон сам был искусителем Байрона. И Байрон сам наказывал Байрона в Байроне. Байрон, он же и погибель Байрона, будет для Байрона загробной карой. Ад существует, но это не ребяческий ад Мэй Грэй. Ад существует, но он внутри нас, и живые сами погружаются в него.
Старик! Ведь умереть не так уж трудно…
Это была последняя фраза Манфреда аббату, это и есть, как писал Байрон Августе, «вся мораль поэмы». Не все люди боятся смерти. Одни боятся её потому, что любят жизнь, другие потому, что страшатся будущей жизни. Но человеческое существование — суровая битва, и бывают чувствительные существа, ощущающие безвыходный внутренний конфликт; для них смерть — как бы желанное успокоение. Байрон был из таких людей. Слишком мужественный, чтобы бежать от жизни, но слишком усталый, чтобы бояться смерти, он хранил о ней среди сутолоки этого странного карнавала никогда не покидавшую мысль. Как когда-то на серых стенах Ньюстеда, пляска смерти извивалась по фризам его венецианского убежища.
Ему стоило большого усилия написать этот третий акт. Первый вариант, отосланный Меррею, показался слабым всем его друзьям. Он переделал его. Наконец в июне 1817 года драма была напечатана в Англии. Это было довольно опасно для Августы, которую в глазах света любовь Манфреда к Астарте обвиняла самым прозрачным образом. «Никакое признание не могло бы быть более полным, — писала миссис Вильерс. — Это так прозрачно, что его друзья не решатся и подумать отрицать эти намеки… Видели ли вы журнал «The Day and New Times» от 23 июня? Там есть длинная критическая статья о «Манфреде», недурно написанная, по-моему, но полная намеков, и совершенно явных, на Августу». Что же касается самой Августы, теперь уже окончательно прирученной, она писала Аннабелле, спрашивая, что она должна говорить о «Манфреде», если её спросят. «Вы не можете говорить о «Манфреде», — ответила ей леди Байрон, — не выражая вашего неодобрения самым определенным образом».
Читать дальше