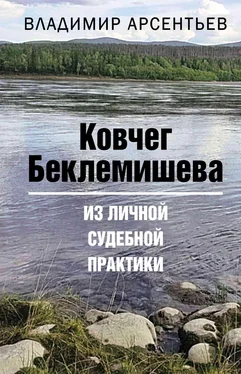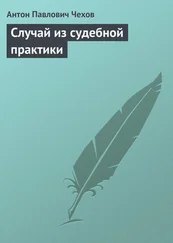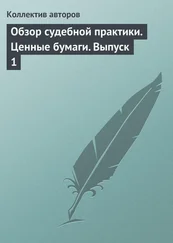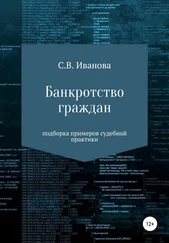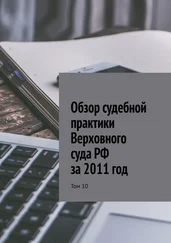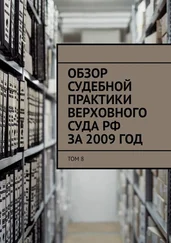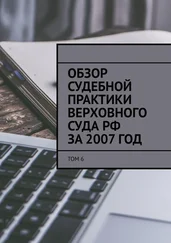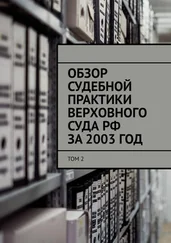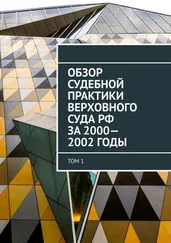Следственные органы как таковые могут быть упразднены без ущерба для гражданского общества. Без этого искусственного политического института дознаватель (судебный следователь, товарищ прокурора и т. п.) может задержать подозреваемого; установить, если есть, потерпевшего; зафиксировать свидетелей, список которых передать прокурору. Тот в свою очередь и по своему усмотрению может представить свидетелей для первого и, желательно, последнего допроса в суде; в своей речи сформулировать обвинение и предложить решение. По результатам судебного следствия суд может вынести оправдательный или обвинительный приговор. Длительность производства по делу — 10 дней, в исключительных случаях — 20 дней и в особых — 1 месяц. Пересмотр судебного решения возможен в апелляционном порядке, а отмена — только в кассационном и только в случае существенного нарушения судебной процедуры. Присяжные заседатели участвуют в рассмотрении уголовного дела только по желанию обвиняемого, заявленному им до начала судебного разбирательства.
Итак, свободолюбие — настроение не политическое, однако склонное подвергать сомнению или критическому осмыслению власть, родившую собственность и новую реальность. Выразителем новых кризисных отношений явился особый порядок, демонстрирующий катастрофическое неравенство и «право сильного», ведущих, в конечном счёте, к общественной деморализации. Реакционный характер изменений закрепился мифологической процедурой — механизмом подавления воли человека и, может быть, почвой для новых преступлений. Поскольку «миф — не свободный вымысел: истинный миф — постулат коллективного самоопределения, а потому и не вымысел вовсе и отнюдь не аллегория или олицетворение, но ипостась некоторой сущности или энергии [161] Иванов В.И. Родное и вселенское. М., 1994. — С. 40.
», писал Вячеслав Иванов (1866–1949), представитель гуманитарного мышления и философии культуры ХХ века, переживший свою критическую эпоху.
Переживём ли мы свою?
Глава III
Интеллект-метод
Через четыре года дополнительных расследований и промежуточных судебных разбирательств, создавших волокиту по уголовному делу в отношении Кочетова по причине стремления использовать других в своих целях и страха быть использованным, судья получил в своё производство это дело, связанное с неочевидным убийством.
Из материалов дела усматривалось, что суд неоднократно предлагал следственным органам эксгумировать останки потерпевшей для опознания предположительно Днепровой и проверить тем самым версию защиты Кочетова. Сторона обвинения настаивала, что версия проверена в объёме опознания кисти из обнаруженных останков, куска платья и крестика на тесёмке. Во время споров Кочетов то освобождался из-под стражи, то снова водворялся в тюрьму. Определения суда оставались по существу невыполненными, — по делу никто не работал, занимаясь бумаготворчеством.
Наряду с этим, как выявил судья при изучении материалов уголовного дела, органы следствия обвиняли Кочетова в том, что он сначала расчленил и сокрыл неопознанный труп в канализационном колодце, а спустя некоторое время совершил убийство Днепровой при невыясненных обстоятельствах. И вновь обратил дело к доследованию [162] Архив Иркутского областного суда, дело № 2–318–98.
.
Кассационная инстанция в основу своего определения положила протест прокурора и согласилась с ним. Что касалось вновь выявленного уголовно-процессуального нарушения, вытекавшего из текста предъявленного Кочетову обвинения, то вышестоящая судебная коллегия посчитала это опечаткой и предложила суду первой инстанции самому исправить допущенную органами следствия ошибку, мотивируя тем, что «время совершения действий по сокрытию преступления в состав преступления, в котором Кочетов обвиняется, не входит» [163] Архив Верховного Суда Российской Федерации, дело № 66-О99–4.
.
Хотя в своём постановлении судья прямо указал со ссылкой на конкретные материалы дела и процессуальные документы, составленные следственными органами, что текст постановления о привлечении Кочетова в качестве обвиняемого противоречил обстоятельствам, вытекавшим из материалов дела, что требовало дополнительного расследования и являлось препятствием к рассмотрению дела судом. Тем более, изложение противоречивых между собой событий происшествия делало обвинение по существу ничтожным и, более того, не подпадало под понятие опечатки как ошибки в печатном тексте, обычно в результате случайности. Наоборот, закономерностью выглядело перекладывание на суд несвойственной ему функции обвинения, поскольку по делу сложилась ситуация, при которой необходимо было не только добыть доказательства, из которых установить обстоятельства преступления, но и сформулировать на полученном основании обвинение Кочетову. В данном случае имел место утилитарно-формальный подход в удовлетворении протеста прокурора, выразивший обвинительную направленность до разрешения судебного дела по существу. А каким судом судите, коллеги, таким и будете судимы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу