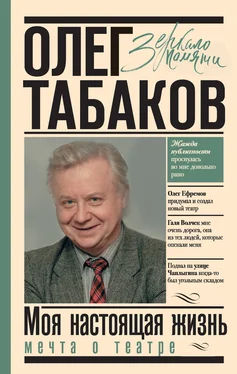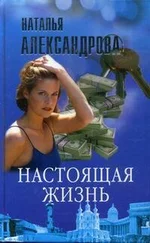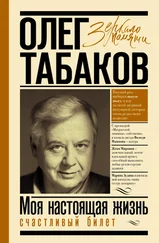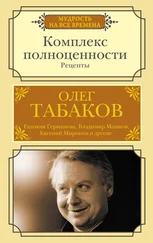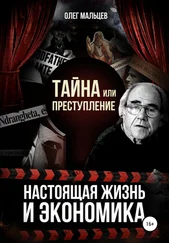Важнейшим условием общего роста в театре, во всяком случае роста способных людей, является ситуация, когда вопреки всему кто-то один из коллектива прорывается вперед.
Я понял это довольно рано, когда почувствовал, что категория «коллектив единомышленников» уже неприменима к театру «Современник». Что иногда противопоставление индивидуальности коллективу и есть благо как будирование сомнений, как фактор развития. Мои оценки того, что делалось в театре, довольно часто расходились с оценками моих товарищей. Но тогда я еще никому об этом ничего не говорил, а когда спрашивали – уклонялся.
Долгое время, выдавая себя за коллективиста, я поддерживал Ефремова. Любя его, честно пытался верить в постулаты, внушаемые нам Олегом Николаевичем. Его влияние оказалось таким сильным, что на первых порах существования Подвала я даже попытался создать в своей студии правление, с помощью которого предполагал насаждать коллективные формы управления театром и которое в течение трех лет сам же и уничтожил. Оно отмерло, потому что театр не может быть управляемым коллективно , точно так же как весьма маловероятным мне представляется, что вообще что-либо может управляться таким образом. Коллективное управление – значит, безответственное, или же «управляющий» коллектив – лишь статисты, не обладающие властью, и на самом деле управляет кто-то один.
Теперь я попытаюсь порассуждать о том, к чему же все это привело.
Прежде всего к тому, что в театре отсутствовали новые художественные задачи, появляющиеся только в результате работы над качественно новым драматургическим материалом. Шекспира нельзя играть, как Володина, а Мольера – как Розова. При освоении нового автора рождаются новые художественные задачи, касающиеся и формы, и манеры, и пластики, и ритма жизни на сцене, наконец. Элементарные вещи, но, будем так говорить, давно преданные забвению в русском театре и время от времени случайно рождающиеся в лучших спектаклях Петра Наумовича Фоменко, или Валерия Фокина, или Георгия Александровича Товстоногова. Это случалось и в спектаклях Галины Волчек: «Обыкновенной истории», «На дне», «Двое на качелях». Это было в одном из первых спектаклей Подвала «Прощай, Маугли!», поставленном Константином Райкиным и Андреем Дрозниным-старшим. Всерьез познавая литературный материал нового автора, театр рождает свой новый театральный язык, обогащая собственный профессиональный арсенал.
«Современник» с сильным запозданием пришел к классике, то есть к тому литературному материалу, к тем драматическим текстам, которые, может быть, как ничто другое, позволяют сделать реальные шаги в освоении профессии. «Обыкновенная история», сделанная Галей Волчек в 1966 году, опоздала если не на девять, то на пять-шесть лет точно.
Еще в самые первые годы Студии молодых актеров мы с Женей Евстигнеевым раздобыли вырванную из школьной хрестоматии, сброшюрованную пьесу «Ревизор», читали ее вслух, хохотали, наслаждаясь гениальностью гоголевского текста, ощущая почти физиологическую потребность пропускать его через себя. Были и желание, и готовность сыграть это. Да и расходилась пьеса просто замечательно: Городничий – Ефремов, Осип – Евстигнеев (Евстигнеев мог также играть и Городничего, и Землянику – да почти все роли), Анна Андреевна – Галя Волчек, Марья Антоновна – Нина Дорошина, Хлестаков – я, ну, и так далее, и так далее. Лишив себя всего этого, «Современник» не просто застрял, он начал топтаться на месте. Уже на третьем году жизни «Современника» слова «гражданское», «гражданственность», «гражданин», «художник-гражданин» превратились для меня в полигон для иронии и сарказма. Я очень успешно показывал «художников-граждан» театра, делая это более или менее обидно для тех, кто был героем показов. Ну какой на хрен гражданин? Хорошо, гражданин, но гражданином-то ты быть обязан! Я имею в виду сейчас не какого-то конкретного человека, а целое явление, ставшее тормозом для развития театра.
Мы никогда не обсуждали с Ефремовым вопрос, почему «Ревизор» не ставится у нас в театре. Мне казалось, что события, связанные с успехом моего Хлестакова в Праге, должны естественным образом привести к тому, что «Ревизор» появится и в «Современнике». Но этого не произошло. Я не предлагал, ожидая, что предложат другие, а оказалось, что никому это не нужно. Хотя мне никогда не казалось чем-то таким важным лично для меня сыграть Хлестакова здесь. Я-то знал, как и что это было в Праге, и честолюбие мое было давно уже удовлетворено. Меня видел мой учитель Василий Осипович Топорков, видели оказавшиеся в Праге мхатовцы, Георгий Александрович Товстоногов, Евгений Лебедев (БДТ как раз был на гастролях в Чехословакии) и, наконец, сам Ефремов – я специально для него договаривался с театром, и его вызывали в Прагу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу