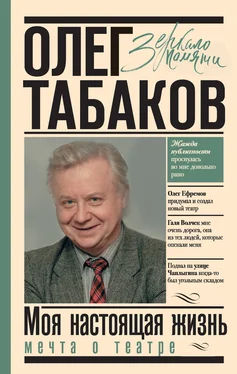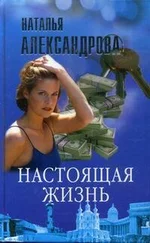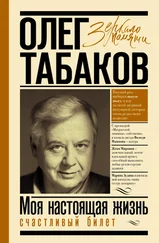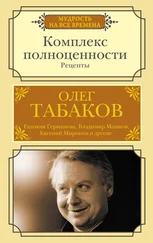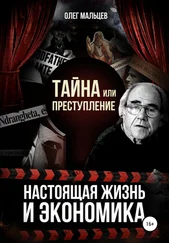Художественное оформление Елисеева и Скобелева весьма удачно соответствовало происходящему: два полотнища, черное и красное, двигаясь навстречу друг другу, медленно менялись местами, давая возможность переменить декорации. Спектакль был знаменит тем, что вся работа машинно-декорационного цеха совершалась актерами. Мы сами переносили блоки с натянутыми на деревянные рамки парусиновыми полотнищами и репетировали свои передвижения так долго, что научились все делать за сорок секунд. У монтировщиков так не получалось.
В театре работали два монтировщика: Боря Сибиряков и Миша Секамов, нежно любимые нами и пьющие больше, чем актеры, то есть до онемения. Но преданные. Они вдвоем могли делать то, что сейчас делают восемь, десять человек. Секамов еще и плясал замечательно, в тех же «Двух цветах» чечетку бил. К сожалению, после тридцати лет работы они оба исчезли из театра. Не многих в жизни людей я вспоминаю так нежно и печально, как этих двоих. Помню и нашего первого радиста Орехова, который, демобилизовавшись с флота, все время качал права. А Боря с Мишей были нам как братья…
«Два цвета» всегда открывали гастроли «Современника». Спектакль принес нам немало лавров. Он был чем-то вроде щита для театра, скорее даже нашей наступательной машиной.
Дальше был спектакль «Взломщики тишины» Олега Скачкова, который ставил Сергей Микаэлян. Я играл Фрица Вебера, обучающегося в Москве немца из ГДР. У моего героя робко намечался роман с одной из дочерей главы семьи. Не могу сказать, что «Взломщики тишины» запомнились чем-то особенным. Но опять возникла дискуссия о политической, идейной ориентации театра, сопровождающаяся эмоциональными всплесками партийных чиновников. Она продолжалась долгое время, разгораясь с новой силой с выходом каждого нашего спектакля. В нас их не устраивала некая двойственность, отсутствие цельности, наблюдавшейся и в «Оптимистической трагедии», и в «Иркутской истории» – спектаклях, которые нам ставили в пример. А ведь «Иркутская история», по сути, о том же, что и «Продолжение легенды», но там нет никакой рефлексии. Просто на канве строительства коммунизма разработана история о том, как шлюха становится хорошей матерью, то есть одна из тем «музично-драматичных» театров. Но она устраивала партократов, которым необходимо было, чтобы все сценические образы строителей коммунизма являлись начисто лишенными вторичных половых признаков. Неким неписаным законом им отказывалось в праве размножаться естественным путем. Они должны были продолжать род почкованием, как деревья, как цветы, а умирать стоя, но не жить на коленях…
Всякий раз, когда выходил наш новый спектакль, в нем обязательно находили какую-нибудь червоточину. «Современник» долгое время не получал официальных наград, а Государственную премию дали за «Обыкновенную историю», вышедшую аж в 1966 году.
В сезоне 1959/60 Ефремов поставил «Пять вечеров» Александра Моисеевича Володина. Вторая моя после «Фабричной девчонки» встреча с этим автором. Пьесы Володина резко отличались от всех этих производственно-человеческих пьес, заполонявших сцены. В одной из таких пьес первый акт заканчивался тем, что входил человек, прерывая любовное свидание героев словами: «Нефть пошла. Фонтан забил!» Тогда молодой человек говорил своей возлюбленной: «О часе свадьбы договоримся особо» – и убегал от девушки к бьющей скважине.
«Пять вечеров» в этом смысле были какими-то чрезвычайно задевающими людей. Что называется, «про самую что ни на есть жизнь» играли Ефремов, Лиля Толмачева. Галя Волчек играла продавщицу, случайную связь героя, Женя Евстигнеев – настоящего главного инженера, а мы с Ниной Дорошиной – парня и девушку, влюбленных друг в друга.
Пьеса далась нам с большим трудом.
Незадолго до того она имела чрезвычайно шумный успех в интерпретации Георгия Александровича Товстоногова, поставившего «Пять вечеров» с Ефимом Копеляном, Зинаидой Шарко, Кириллом Лавровым и Людмилой Макаровой в роли Кати.
Олег Николаевич ставил, одновременно играя Ильина, и поэтому какую-то часть репетиций с нами проводил М. Н. Кедров, тогдашний главный режиссер Художественного театра. Но наши представления об искусстве любить в пятидесятые-шестидесятые годы сильно разнились с представлениями Кедрова о том же самом. И настолько, что, когда Михаил Николаевич позвал меня играть Хлестакова в свою постановку во МХАТе, я отказался от этого предложения наотрез. Хотя ассистент Кедрова и имел со мной четырехчасовую беседу, я сразу вычислил, что работа над спектаклем будет длиться года два. Наши темпоритмы жизни явно не совпадали…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу