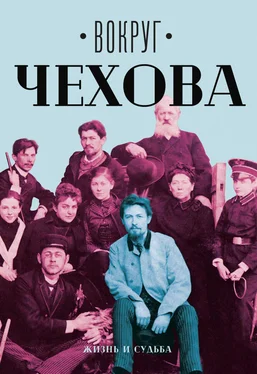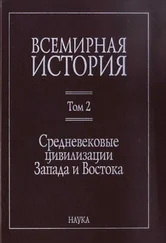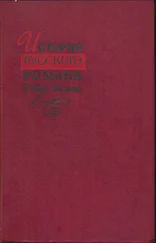Дедушка Егор Михайлович никак не мог помириться с тем, что наши родители не сделали из нас лавочников и ремесленников, а отдали нас в гимназию. Поэтому он не упускал никогда случая ругнуть нас «учеными». Антоша и я, однако же, не придавали этому никакого значения. Оба мы в те времена были глубоко уверены в том, что дедушка во сто крат неразвитее и невежественнее каждого из нас. Дедушка же, в свою очередь, не раз предупреждал нашего отца:
— Не учи, Павло, детей наукам, а то станут умнее батька с матерью. <���… >
Тем не менее дедушка и бабушка, после короткого совещания, решили, что нас, гостей, надо положить в большом доме, потому что в их маленькой хатке четверым будет душно, да и блох много. Дом отперли, набросали на пол душистого сена, покрыли простыней и таким образом устроили для нас одну общую постель и вместо пожелания спокойной ночи сказали:
— Смотрите же, не балуйтесь, а спите…
Мы остались в пустом доме одни, без огня. По счастью, теперь мы были сыты. За чаем мы умяли целую паляницу вкусного пшеничного хлеба. Но все-таки нам было скучно и спать не хотелось.
Мы вышли на галерею и уселись рядом на ступеньках лестницы. Во всей усадьбе была такая мертвая тишина, что явственно было слышно, как изредка фыркают лошади в отдаленной конюшне. Кругом все спало. Тихо было повсюду — и в степи, и на речке с ее кустарниками и камышами, и в ночном воздухе. Раз только низко над землею пролетела какая-то ночная птица, да из степи донеслось что-то похожее на крик журавля. Антоша глубоко вздохнул и задумчиво проговорил:
— Дома у нас теперь ужинают и едят маслины… В городском саду играет музыка… А мы здесь бедных воробьев разоряем да несчастных голубей едим.
Мечтою и думами он жил в этот момент в Таганроге и думал о родной семье и о родной обстановке. И в самом деле, мы чувствовали себя здесь одинокими, точно заброшенными на необитаемый остров.
— Зачем мы сюда приехали? Здесь нехорошо, — проговорил Антоша с грустью.
Через полчаса он ушел спать, а я остался один со своею безотрадною скукою. Ночь была тиха, пленительно тиха. Как был бы здесь уместен живой человеческий голос!
Но, чу! Я даже вздрогнул… Произошло что-то волшебное. Из-за реки вдруг донеслась нежная, грустная песня. Пели два голоса: женский контральто и мужской баритон. Что они пели — Бог его знает, но выходило что-то дивное. То женский голос страстно молил о чем-то, то баритон пел что-то нежное, то оба голоса сливались вместе, и в песне слышалось безмятежное счастье… Я невольно окаменел и заслушался. Я любил пение нашего соборного хора и наслаждался концертами Бортнянского, но такого пения я не слыхивал ни разу в жизни.
— Саша, где это поют?
В дверях стоял Антоша, весь озаренный луною, с широко раскрытыми глазами и с приятно изумленным лицом.
— Это ты, Антоша? А я думал, что ты уже спишь.
— Я собирался заснуть, да услышал это пение… Где это поют?
— Должно быть, за рекой. Какой-нибудь паробок и дивчина.
Антоша опять сел подле меня, и оба мы застыли, слушая неведомых певцов. Где-то во дворе тихонько скрипнула дверь, и через несколько времени мимо нас прошла, вся залитая луною, Гапка. Она шла медленно по направлению к реке и тихо рыдала.
— Боже ж мой! Боже ж мой, как хорошо! — бормотала она. — Когда-то и я тоже… А где оно теперь?..
— Саша, о чем она, бедная, плачет?
— Не знаю, Антоша…
И нам обоим захотелось заплакать.
Пенье умолкло, когда небо уже начинало бледнеть. Мы вошли в комнату и улеглись усталые, но счастливые и довольные. Но заснули мы только под утро, когда в слободе пастух, собирая скотину, заиграл в трубу.
X
Проснулись мы на следующее утро в девять часов — по-деревенски очень поздно. Дедушка давно уже был в поле. Бабушка не захотела ставить для нас самовар и с недовольным ворчанием дала нам по горшку молока и ломтю хлеба, а затем мы снова были предоставлены самим себе.
<���…> Мы пошли бродить по двору и забрели в конюшню. Там мы застали того самого угрюмого беспалого солдата Макара, который привез нас вместе с мукою в Княжую. Он с помощью тряпицы, намотанной на палочку, смазывал чем-то жирным израненные плечи лошади. На нас он не обратил ровно никакого внимания, вероятно, желая выказать этим свое презрение к нам.
— Чем это ты мажешь? — полюбопытствовал от нечего делать Антоша.
Макар смерил нас обоих взглядом с ног до головы, ничего не ответил и только оттопырил щетинистые усы.
— Это лекарство? — допытывался Антоша.
Читать дальше