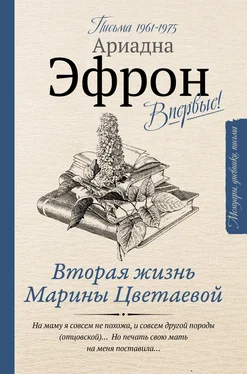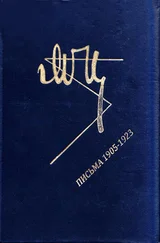Новый год встречали под оттеновской сенью, в общем, довольно мило — была пестроватая компания, помесь французского с нижегородским [374], для шику пустили магнитофонную запись некоей кантаты Баха («которой ни у кого нет»), и все минут сорок сидели с одухотворенными лицами и не смели жевать, а кто уже разжевал, тот не смел проглотить и так и сидел с флюсом и очи горе («кроме меня — кроме меня» — я-то, дорвавшись до бесплатного, не стесняла своего здорового аппетита даже Бахом на слова Лютера [375]). Среди прочих была и Наташа Столярова [376], отчаянная, приехавшая в 35-ти градусный мороз в «туалете» и в последнем, битком набитом автобусе. Простудилась ужасно и встречала Новый год с температурой 38,7. Жалко ее было. Восседала за столом и Мандельштамша в неимоверной клетчатой юбке с двумя аграмадными, с патефонную пластинку, пуговицами на заду, по одной на каждое полушарие, в грязном свитере и розовых тапочках. Наташа мне рассказала (верно, от Мандельштамши узнала), что Оттен, после объяснения со мной, вернулся «черный, как земля, и три дня не мог разговаривать о поэзии. И слышать о Цветаевой» [377]. — Погода сумасшедшая, за 2 дня опустилась до сорока и поднялась до нуля. Замерзли водопроводные колонки, а потом оттаяли, и везде наводнения. Даже на нашей Первой Дачной, а про Оттенов и говорить нечего, им всегда больше других надо, то там во дворе целое море. Впрочем, им оно по колено.
Очень прошу еще узнать произношение и ударение don Gaspard de Padiffe, неожиданно возникшего в пьесе. Пожалуйста!
Обнимаем Вас обе, адресат шлет свой черно-бурый привет. Она стала очень пушистая и милая.
Ваша А. Э.
Милая Анечка, получила Ваши оба письма и Розины фотокопии, за которые ей благодарна. Впрочем, дело тут не в благодарности, все слова не те по сравнению с теми, что в письмах. Надо написать Розе «поблагодарить», а рука не поднимается. К тому же еще потому, что все эти дни хвораю, видно, грипп, и всё тянется, т. к. я в Москву ездила больная, и там была, и оттуда приехала, и по сей вечер — всё еще больная, температурная, с тяжелой головой и трудным дыханием, впрочем, t° пришло в эту самую тяжелую голову смерить только сегодня. — В Москве звонила вечером Вам домой, дважды, но так никто из лентяев не подошел; выяснила, что решительно не способна ни на какие действия, и надеялась, что, может быть, вы зайдете ко мне — потрепаться. Но Вас, возможно, вечером и дома не было. В «Искусство» я просто завезла одного из двух Скарронов, который, не в пример Лопе, по-моему, неплохо получился. В богоспасаемой редакции не было никого , кроме некоей скорбной дамы в трауре, которая сидела одна и… прихлебывала из четвертинки, простудившись на… похоронах, как она сообщила мне. Все прочие готовились к редакционной елке, — жизнь соткана из противоречий. Так что Скаррона подкинула, как младенца, в редакторский стол, и ушла в полном неведении чего бы то ни было материального. Про Лопе ничего не знаю, кроме того, что в «законные» сроки никто мне не швырнул его в рожу с негодованием за непригодность; перевод очень неважный; а вот Скаррон — другой коленкор, хоть, конечно, тоже с огрехами, но есть очень удачные места, и времечка бы побольше, сделала бы с блеском. Из «второго» сделала 18 стр. из 112 возможных, и эти дни работаю из рук вон из-за нездоровья, праздников и пр. Но все же двигаюсь. Ада уедет — опять запрягусь всерьез и без отклонений. — Воронков [378]сказал мне по поводу Вас: «Пусть она считает себя уже членом комиссии». Так что считайте! Бог даст, будет мой Рыжий со временем настоящим специалистом по Цветаевой; а их ведь еще нет, и не скоро будут. Так или иначе, большая удача, что и на второй книге, даст Бог обратно же, будет Ваша же фамилия. Милый Рыжий, я рада, что мы встретились, и что Вы — тот самый человек, которому я могу доверить маму, и что Вы настолько моложе меня, и еще долго сможете многое делать для нее и во имя ее чистыми и любящими руками.
—
Сегодня получила письмо из Медона, от Муриной крестной [379], которую просила связаться с героем обеих поэм и узнать насчет поэмы с посвящением [380](это была поэма Горы или Конца?), обнаруженной Вами у милых Сосинских. Она пишет: «Говорила по телефону с Константином Болеславовичем [381]. Он очень волновался, т. к. рукопись, о которой ты пишешь, была вложена в конверт со всякими другими вещами. Как это печально, что Сосинский вытянул из конверта… Константин Болеславович придет ко мне, чтобы поговорить и узнать всё о тебе…» — Как Вы думаете, Аня, как умнее теперь поступить? Ведь это фактически — кража со взломом, обыкновенная уголовная, если даже оставить в стороне моральную сторону, ибо рукопись денег стоит , так же как неизданная фотография, которую он вытащил, переснял и пустил в оборот. Пораскиньте мозгами. Надо обязательно дать ему по рукам, но прежде взять на учет и переснять его архив… так же как и те «конверты» (из того же конверта), которыми он хвастался перед Вами. Дурень думает, что и Вы, и Роза были у него без моего ведома… Пока что напишу Константину Болеславовичу (через крестную, т. к. моего письма по его адресу он, по-моему, не получил) и постараюсь выяснить точнее, что было в конверте. Он, конечно, ничего не считал (писем) — наивный человек! Так или иначе, Сосинского важно не напугать прежде времени, ему недолго и уничтожить , он ведь дурак [382].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу