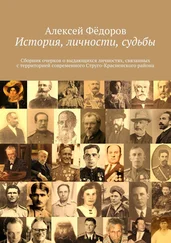— Признаюсь, — сказал он, — не верил, что мы способны оказать немцам серьезное сопротивление. Думал: раз нам суждено погибнуть, так давайте же поскорее и покрасивее.
О подобной красоте не только он один заботился. Мельком я упоминал уже об артисте черниговской драмы Васе Коновалове. Он и теперь здравствует. Воевал хорошо, награжден. Но в самом начале… Как-то раз ночью явился он с группой актеров в Черниговский обком, прямо в мой кабинет, с просьбой принять их в формирующийся партизанский отряд. Я его включил в списки. В ту же ночь он получил винтовку. Так, с винтовкой, и пошел домой прощаться. Потом, у партизанского костра, сам рассказывал:
— Возвращаюсь домой, настроение лихое, в бой бы с таким настроением. А надо спать ложиться. Ложусь и винтовку с собой в постель.
Так многие молодые люди романтично воспринимали свое вступление в партизаны. Но надо было этим молодым людям показать труд войны, надо было научить их преодолевать трудности.
В эти же дни всеобщих переживаний произошел у меня разговор по душам с Громенко.
Он вернулся из «отпуска». После совещания с командирами я позволил ему отлучиться. Отправился он к жене с партизанскими подарками. Дали ему меду, масла, леденцов, печенья. Дали ему сотню патронов, два пистолета, пару гранат.
В отлучке Громенко был пять дней. Два дня путешествовал туда, два обратно, а у жены пробыл всего лишь ночь и часть утра. Отчитался он коротко:
— Командир первого взвода Громенко. Вернулся из отпуска. Все в порядке. Разрешите приступить к исполнению обязанностей?
Часа через два я снова увидел его среди бойцов первого взвода. Он усадил их кружком и что-то горячо говорил. Я тоже присел послушать. Громенко сказал мне, что проводит политбеседу, и продолжал:
— Каждому из нас, товарищи, следует пересмотреть наново всю свою жизнь…
«Куда он гнет? — думал я. — Что это за философские беседы с бойцами?» Но смолчал и стал слушать дальше. Тем более, что, судя по выражению лиц, бойцы беседой были увлечены.
— Хотим мы того или не хотим, но думаем мы сейчас все очень много. Да и как может быть иначе? Нормальная жизнь поломалась, семьи разбиты, профессии наши, то, к чему мы готовились годами, теперь не нужны. Во всяком случае, до победы. И вот мы горюем. Многие горюют. Я слышал, товарищ Мартынюк рассказывал свой сон. Будто подбегает к нему дочка и просит приласкать, и прижимается к нему, и плачет. Просыпается товарищ Мартынюк и замечает, что гладит рукав своей телогрейки. И рукав этот мокрый от слез. Ответьте мне, товарищ Мартынюк: сколько вам лет и кем вы работали до войны?
Сивоусый, коренастый Мартынюк поднялся с бревна, на котором сидел, похлопал глазами и сказал:
— Имело место.
— Я просил вас сообщить свой возраст и профессию. Вы напрасно волнуетесь. Я не упрекаю вас за то, что снятся вам ваши дети. Мне и самому снится прошлое. Вот уже третий месяц я или протравливаю семена, или подрезаю ветки яблонь, или…
— А я вчера, — прервал вдруг командира взвода парнишка лет девятнадцати, — играл в футбол против немецкой команды. И мяч, будто мина, может взорваться. Честное слово…
Все рассмеялись, Мартынюк тоже улыбнулся и сказал:
— Лет мне, товарищи командиры, сорок четыре. Профессия моя формовщик черного чугунного литья. Прошу извинения, что рассказывал сон и других смутил. Жизнь я обязательно перегляжу и других вызываю. А дочка у нас с женой родилась, когда мне уже было Тридцать восемь, а жене тридцать четыре. Первое наше дитя. И его уничтожила германская бомба… Разрешите сесть?
Я поднялся и ушел. Ничего не сказал Громенко, не стал прерывать его беседу. Хотя показалось мне, что напрасно он будоражит нервы своих бойцов. Вечером он подошел ко мне сам. Выбрал момент, когда я был один.
— Можно, Алексей Федорович, — попросил он, — посоветоваться с вами и поговорить, как со старшим товарищем? Вам не понравилась, как мне кажется, беседа, которую я вел сегодня утром.
— Пойдем, товарищ Громенко, — предложил я ему, — погуляем по лесу.
Он с радостью согласился. Мы отошли от лагеря метров на двести, уселись там на пеньки. Вот что рассказал он мне.
— Я, Алексей Федорович, агроном. Это вы знаете. В прошлом мужик. Крестьянской кровушки, крестьянского воспитания. В общем, интеллигент из народа. Думаю, не могу не думать. И когда работал на контрольносеменном пункте, понимал зерно не только как хлеб. Нет, еще в большей степени я понимал его как труд народа. И мечту Мичурина сделать пшеницу многолетним растением, а если нельзя это сделать с пшеницей и житом, то, может быть, и по боку их и вырастить хлебные орехи… эту мечту я очень хорошо понимаю. Вот.
Читать дальше