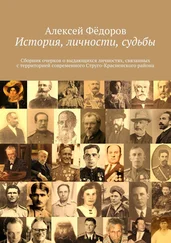— Так… — сказал Гузь. — Так-так, — повторил он и сильно наморщил лоб. Он был явно растерян. — Дело такое! Этот гражданин, по фамилии Федюк, уполномоченный немецкой комендатуры. — Повернув лицо к связанному, Гузь сказал:
— Это — недоразумение, сейчас вам развяжут руки.
Бандит поднялся, нагло обвел всех взглядом.
— Я, — сказал он громко, — пан бургомистр, проследил: Мария Калюжная была связана с партизанами Ее муж — коммунист. Весь хутор, господин бургомистр, партизанский!
— Брехня, вин бреше! — закричали хуторяне.
Волнение передалось всему залу. Все шептались, переговаривались. Кто-то крикнул:
— Повесить убийцу!
Немец, внимательно следивший за всем, вскочил и разрядил свой парабеллум в потолок. Мгновенно наступила тишина. Немец опять сел и дернул за рукав переводчицу.
— Я полицай, — повторил Федюк. — К Марии Калюжной ежедневно приходили партизаны…
— Если порядок наводил, зачем это добро забрал?! — с этими словами старуха кинула на стол большой узел.
— Это конфискация, — немало не смутясь, заявил бандит.
Слово «конфискация» произвело магическое действие на немецкого солдата. Он заволновался, стал торопить переводчицу. Она поднялась и прерывающимся голосом, заикаясь, сказала:
— Господин немецкий солдат просит напомнить вам, пан заступник бургомистра, что по действующей инструкции из конфискованных муниципальными властями предметов все драгоценные металлы, а также каменья и произведения живописи и ваяния должны быть сданы в фонд имени Геринга… — пока старушка говорила, солдат несколько раз подгонял ее злобными окриками.
В зале царило напряженное молчание. Я конвульсивно сжимал за пазухой ручку гранаты. Несколько раз взглянул на Днепровского. Никогда я еще не видел его таким. Если бы Гузь или немец, или этот связанный полицай не были так заняты своим «делом» и обратили бы внимание на Павла Васильевича… Он побледнел, его била лихорадка. Правую руку он держал в кармане. Он бросал на меня умоляющие взгляды. «Начнем, да начнем же, Алексей Федорович!» — только так можно было понять его сигналы. Соблазн был, действительно, страшный. Швырнуть гранату, а потом… Как же трудно было сдержаться! Но нельзя, нельзя терять здравый рассудок.
Я заметил, что узнал меня не только Диденко. Человек восемь, не меньше, то и дело поглядывали в мою сторону. Возможно, и они ждали моего сигнала. Но в комнате собралось не меньше тридцати человек, почти одни мужчины. Я, признаться, был крайне взволнован, нервы ходуном ходили. Я оглядывал тех, что были со мной рядом. Что они думают, вооружены ли, на чьей стороне будут в случае схватки?.. Немец хладнокровно перезарядил свой парабеллум… Как распределятся силы? А если двадцать пять из тридцати вроде этого Федюка?
Гузь медлил. Наконец с важностью Соломона произнес:
— Снимите оковы с этого защитника нового порядка! Каждый должен знать, что большевики, а также все их родичи — вне закона!
Узел он снял со стола и передал немцу. Красноносый староста развязал бандиту руки.
— Теперь, — продолжал Гузь, — приступаем к повестке нашего собрания.
Один из селян внезапно закричал:
— Эскадрон, по коням!!! — и рухнул на пол. У него начался жесточайший эпилептический припадок.
Немец что-то бешено заорал, затопал ногами, Федюк и староста схватили несчастного за руки и выволокли в коридор. Односельчане его вышли вслед.
Ни Федюк, ни красноносый староста в зал не вернулись. Через минуту мы услышали стук подков: припадочного, по-видимому, увезли.
Гузь начал речь. Он кричал, гримасничал, брызгал слюной, грозил по адресу партизан кулаком, истерически хохотал. Образцом оратора для него был, несомненно, Гитлер.
Рядом со мной уселась отпущенная немцем старушка-учительница. Ее трепал озноб. Она тянулась к огню. Мне она была неприятна; я отвернулся. Вижу, у двери стоит тот самый юноша-плотник, который с женщинами развалил мостик через реку Удай, — Миша Гурин — и крутит цыгарку. Я поднялся, подошел к нему и громким топотом сказал:
— Дай-ка, хлопче, бумаги.
Он оторвал мне кусок газеты. Я стал крутить папиросу, а тем временем сильно сжал его ногу коленями и сдвинул брови. Он еле слышно прошептал:
— После собрания у Диденки!
Я вернулся на свое место возле печки. Когда садился, неловко зацепил карманом куртки за скамью, а карман этот был у меня чуть не доверху набит патронами для пистолета. Один из них вывалился. Быстро я глянул вниз, старушка-переводчица уже прижала патрон ногой. Взгляд же ее ничего не выражал, с тупым равнодушием, как и все, она глядела на Гузя. «Эге, подумал я, — да здесь немало хороших людей». Гузь скоморошничал, верно, не меньше полутора часов. Подконец перешел от патетической истерии к «деловой части». Он стал требовать, чтобы ремонтировали дороги, мосты; чтобы все регистрировались у старост, чтобы трудоспособные не выезжали без разрешения. Возмущался, почему в начальной школе еще не приступили к занятиям.
Читать дальше