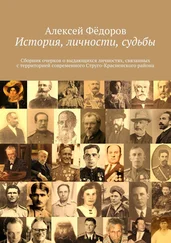Трудно мне было по-пластунски ползти. Живот мешает. Локти сразу заныли. Колено продолжало нестерпимо болеть… Потрогал: крови нет. Стало быть, не ранен.
Уселся я под кустом, ноги поджал, дышу. А стрельба идет по моему пальто. Как ракета взовьется, так немцы его дырявят. Минуту спустя оно упало в реку и поплыло.
Сижу под кустом и, верите ли, рассмеялся. Представил себя со стороны: толстый человек, с орденом на гимнастерке, без сапог, без пальто, без фуражки, весь мокрый, скорчился в три погибели.
Когда выстрелы стихли, я выбрался из-под куста и быстро пошел по полю. Но оказалось, что это вовсе не поле, а срезанный камыш. Вот когда я пожалел о сапогах! Портянки и носки уже через сотню шагов разодрались вдрызг, и ноги, чувствую, поколол и порезал. Но что делать? Иду. Сколько прошел — километр, два? Вижу силуэты каких-то хатенок, а чуть левее скирда пшеницы. Я — к ней. Рядом со скирдой приклад — маленькая скирда. Между ними я и устроился. Соломы надергал, кое-как укрылся, ноги мои, наверное, торчали. Я сразу же уснул, можно сказать, без памяти упал.
Очнулся я только часа через четыре. Сжался в комок, как в детстве, когда вставать не хочется. Лежу, дрожу от холода, в одной руке пистолет сжимаю, а другой занозы из ног вытягиваю. В карманах у меня были запасные патроны. Я пистолет перезарядил. И все лежу, не решаясь даже выглянуть из-за снопа. Ну, конечно, вспоминаю, как драпал от немцев. Ведь трусость я всегда осуждал…
Долго я корил себя, а потом стал раздумывать, что делать дальше.
Тут в шагах пятистах от меня хаты, а в хатах колхозники. Как-то они отнесутся к моему появлению?
Я партийный работник — человек массовый, человек для людей. Одиночества я никогда не знал, не искал и не нуждался в нем. Я это говорю к тому, что прятаться в одиночку лишь для того, чтобы сохранить себе жизнь, я не мог. Сама мысль об этом была для меня невыносима.
Но в тот момент я, признаться, растерялся. А тут еще физическая немощь, ноги опухли, кровоточат… уверенности в себе нет.
Пропел петух. «Так, — думаю, — дело к утру». И вдруг рядом что-то зашуршало, зашевелилось, сноп, которым я прикрылся, дрогнул и упал…
Я стою на коленях; вцепился в пистолет, держу его перед собой… Уже светлеет, и никого нет. Только куры: ко-ко-ко. Вот ведь какая гадость, как напугали!
* * *
За всю войну я не был так близок к гибели, как в те дни. Внешне я выглядел так, что мог вызвать и жалость и смех. Говорю об этом не стесняясь, думаю, что всякий, кто вот так же, вроде меня, начинал войну, в душе признает, что и у него был момент физического упадка.
Но вернемся к тому, что происходило со мной. Повторяю: никогда я не был так близок к гибели. Я поддался усталости. Ведь подумать только — я спал чуть ли не четыре часа в этой скирде пшеницы, меня ничего не стоило взять сонного. А в карманах моей гимнастерки были такие документы: партийный билет, удостоверение секретаря обкома, удостоверение члена ЦК КП(б)У, орденская книжка, депутатские билеты Верховного Совета СССР и УССР.
Итак, на рассвете, когда меня потревожили куры, поблизости не оказалось ни одного живого человека.
Я поднялся и только собрался шагнуть, как начался минометный обстрел поля; совсем недалеко, метрах в трехстах, завязалась и автоматная перестрелка. Кто с кем дрался — не знаю. Но я уже привык остерегаться всего. Да и глупо было бы с моим жалким пистолетом ввязываться в эту потасовку.
Я снова лег, зарылся в скирду. А куры вовсю работали, копались возле меня, кудахтали, петухи гордо и независимо кукарекали. Я уже чувствовал к ним ненависть. Мне была известна немецкая страсть к «куркам» и «яйкам». Придут, станут охотиться за белым мясом — и наткнутся.
Ужасно захотелось покурить. Но я так продрог, что не мог пошевелиться… Папиросы, правда, намокли, спички тоже.
Стрельба вскоре прекратилась. Я услышал чьи-то шаркающие шаги и кашель, определенно старушечий. Никто не разговаривал, значит, старушка появилась в моей зоне без спутников.
Она стала звать кур, что-то шептала, ворчала.
Я вытянул занемевшие ноги, решительно повернулся, отбросил от себя солому и вскочил.
— Чур, чур, чур! — закричала старушка и замахала руками.
Увидеть такого дядю было, наверное, страшно — босой, небритый, мокрый, в голове овсюги.
Она перекрестилась и оцепенела. Я тоже с полминуты молчал, привыкал к свету: утро выдалось солнечное.
— Слышь, бабуся, — сказал я как мог спокойнее, — не бойся. Я не кусаюсь. Немцы далеко?
Читать дальше