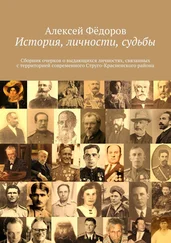— Ладно, товарищ Федоров, перехожу под ваше командование. Будем в тылу сколачивать партизанскую дивизию.
И верно, мы вместе сколачивали наше соединение. Он — комиссаром, я командиром. Но это произошло нескоро. А тогда он так же внезапно исчез, как и появился.
У кого-то нашлась карта района. Разобравшись в ней, своими силами разведав обстановку, мы приняли решение двигаться всей группой к селу Куреньки обходным путем на Чернигов.
Когда стемнело, отправились. Шли по дороге. Погода мерзкая: холодный дождь, бестолковый, порывистый ветер. Темнота непроглядная. Только небо окрашено заревом: горел город, горели села. Бои шли и позади, и впереди, и по сторонам. То и дело возникала перестрелка, но кто стрелял, почему, не знали.
Какие-то люди, и штатские и военные, брели вместе с нами и навстречу нам. Мы часто натыкались на трупы человеческие, лошадиные, шагали через них. Какие-то машины, без фар, обгоняли нас.
Вскоре выяснилось, что в Куреньки идти бессмысленно: туда ворвались немецкие танки. Но идти куда-то надо было, и мы шли.
Тяжелые, плохо сшитые яловые сапоги натирали мне пятки. То ли портянки неумело намотаны, то ли задник слишком груб, но трут, черт бы их взял, и уж говорить ни о чем не можешь и думаешь только о том, как бы переобуться.
Но обнаруживать свою немощь перед товарищами было неловко. Тем более, что кое-кто уже начал сдавать. Большой, рыхлый Сыромятников заговорил о своем сердце: оно, мол, дает перебои.
— Ну, чего там перебои, — подбадривал я его. — Ты, товарищ Сыромятников, плюнь на сердце! И вообще, имей в виду: сердце — это тыловой орган, на войну его брать не рекомендуется.
Так я подбадривал Сыромятникова. Но когда он сказал, что не может побороть одышки, попросил устроить привал, я, признаться, обрадовался случаю:
— Ну, что ж, други, надо Сыромятникова уважить. Порок сердца у человека. Давайте посидим.
Сели мы у канавки. Я сразу же стянул сапоги, стал наново перематывать портянки: на пятках волдыри, а кое-где натерто до крови. Вырезал себе палку, довольно капитальную. Говорю:
— Дополнительное оружие. Если по немецкой каске долбануть, так, пожалуй, и голове достанется!
Но шутки шутками, а ноги болят. Сидим так на краю канавки, перебрасываемся словами.
Потом опять пошли в темноту месить грязь. На рассвете увидели, что вместе с нами движется довольно большая воинская часть. Немало идет и гражданского народа, но одни мужчины — женщин и детей не видно. У гражданских лиц, вроде нас: или кобура висит или карман от пистолета оттопыривается.
Слева от дороги, метрах в трехстах, — лес.
Леса в Полтавщине небольшие и негустые. Но все-таки днем лучше идти лесом, нежели полем, да еще дорогой. Это соображение пришло в голову, видимо, сразу многим. Кто-то направил к лесу разведку. Выяснилось, что там незначительные группы немцев. А нас на дороге, и военных и штатских, никак не меньше тысячи.
Офицеры собрались, посовещались и решили выбить немцев из леска. Была дана команда рассыпаться в цепь.
Наша группа тоже рассыпалась.
Немцы попытались отбить нашу атаку минометным и автоматным огнем, но перевес был явно не на их стороне. Лес мы взяли. Как он ни мал, а все же: деревья, кусты… В цепи ближайшим ко мне был Рудько. Его я нашел, а Дружинин, Капранов, Компанец и другие — исчезли бесследно.
С дороги мы ушли вовремя. Через полчаса там появились немецкие мотоциклисты, за ними последовали танкетки — штук тридцать. Столкновение с ними не сулило нам ничего хорошего.
* * *
Павел Рудько был много моложе меня, здоровее, ловчее. Когда надо было прыгнуть с кочки на кочку, я долго медлил, будто перед купаньем в холодной реке, прыгал тяжело, и натертым моим пяткам было мучительно больно. Рудько же прыгал, как коза, легко, улыбаясь. Но привалам он все-таки радовался больше меня.
Любил Рудько поговорить! Стоило нам где-нибудь присесть, Рудько начинал:
— Какой ужас! Вы обратили внимание, Алексей Федорович, у дубового пня лежал труп колхозника? Рука у него застыла со сжатым кулаком, глаза открыты, кажется, что он произносит страстную речь, обращается к народу…
Помолчит с минуту Рудько, посмотрит вокруг.
— Вот, — говорит, — птичка. Обыкновенный воробышек, щебечет. Ему и горя мало. Чирик-чик-чик. А пока он эту свою простую песенку спел, сотни, да что сотни, тысячи людей погибли под градом пуль!
— Слушай, Рудько, брось, помолчи!
— А что, разве я не прав, Алексей Федорович? У меня душа болит, Алексей Федорович, не могу я.
Читать дальше