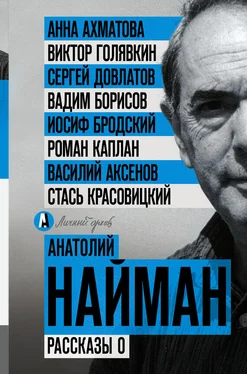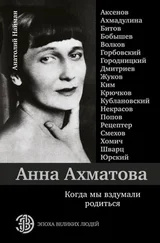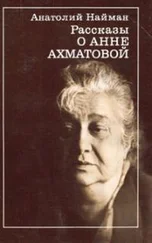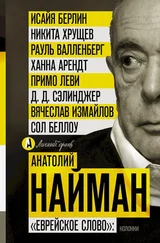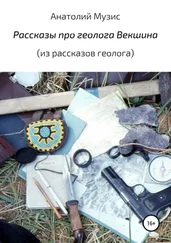Она объясняла, что пушкинистика в ближайшее время вряд ли добьется сколько-нибудь значительных результатов, потому что пушкинисту кроме чутья, таланта, трудолюбия и других обязательных для ученого качеств необходимо еще и хорошее знание французского, английского, истории эпохи – а такое сочетание сейчас редко. Она требовала от писателя образованности Томаса Манна и приводила в пример «Волшебную гору», правда, с оговоркой, что рассуждения о времени уступают уровню всей книги – которую она любила, как казалось, специфически лично, может быть из-за описания быта туберкулезного санатория; я читал ее, лежа в больнице, и она сказала: «А это и есть больничное чтение».
Но при этом она выделяла Хармса-прозаика: «Он был очень талантливый. Ему удавалось то, что почти никому не удается – так называемая «проза двадцатого века»: когда описывают, скажем, как герой вышел на улицу и вдруг полетел по воздуху. Ни у кого он не летит, а у Хармса летит». Она говорила: «Фрейд – искусству враг номер один. Искусство светом спасает людей от темноты, которая в них сидит. А фрейдизм ищет объяснения всему низкому и темному на уровне именно низкого и темного – потому-то он так и симпатичен обывателю. Искусство хочет излечить человека, а фрейдизм оставляет его с его болезнью, только загнав ее поглубже. По Фрейду, нет ни очищающих страданий, ни просветления «Карамазовых», а есть лишь несколько довольно гнусных объяснений, почему при таких отношениях между отцом и матерью и таком детстве ничего, кроме случившегося, случиться и не могло. А к чему это?» Она рассказала про письмо одной ее приятельницы другой, Надежде Яковлевне Мандельштам, о книге, которую написал Хазин, брат Н.Я. «Он написал роман, кажется, о 1812 годе: о чем пишут люди, чтобы не умереть с голоду? И, между прочим, в похвалу автору та заметила, что он умеет забалтываться, а это необходимое качество настоящего прозаика. И дальше – я читала своими глазами, потому что Надя хотела меня поссорить с ней и показала письмо: «Это знают все и даже Анна Андреевна». Правда, и та меня ссорила с Надей». Она посмеялась, но то, что прозе нужно забалтываться, что прозе нужна избыточность, «ненужная деталь», было для нее азбукой искусства. Может быть, из-за того что теперь «это знают все», она ставила прозу середины века выше прозы ее молодости, когда блистали перлы вроде «Степь чутко молчала» – чья-то фраза, в свое время попавшая на язык Мандельштаму. Ей понравился рассказ Аксенова «Победа», а несколькими годами раньше рассказ Рида Грачева «Подозрение». Но «выше-ниже» был уровень средней прозы – в 10-м году еще писал Лев Толстой: «всо-таки», как шутила она.
Больше, чем отзывающуюся произволом свободу и непредсказуемость гениальности, она ценила тайну. «В этих стихах есть тайна», – было первой настоящей ее похвалой. Другая: «В этих стихах есть песня», – была в ее устах исключительной редкостью, я слышал такое лишь два раза, о Блоке и о Бродском, по поводу «Рождественского романса», но и вообще об его стихах. Однажды Бродский стал с жаром доказывать, что у Блока есть книжки, в которых все стихи плохие. «Это неправда, – спокойно возразила Ахматова. – У Блока, как у всякого поэта, есть стихи плохие, средние и хорошие». А после его ухода сказала, что «в его стихах тоже есть песня», – о Блоке это было сказано прежде, – «может быть, потому он так на него и бросается».
Как заметил знаменитый трубач и певец Луис Армстронг, «сперва я думал, что людям нужна песня, но скоро понял, что им нужен спектакль». Что же касается тайны, то уже при жизни Ахматовой тайна стала заменяться намеком, а после ее смерти поэзия намеков сделалась общепринятой и общепризнанной. В 70-е годы поэт намеков имел большую, преданную ему, им самим воспитанную аудиторию, которая прекрасно разбиралась, о каком политическом событии или лице идет речь в стихах, посвященных рыбной ловле: «мальки» означали молодежь, «сети» – цензуру. Это был символизм наоборот, поэзия второй половины XX века.
* * *
Это правда, что мелочи, попадавшие в сферу ее внимания, она наделяла грандиозностью, которая окружающим казалась излишней. Таков был эффект масштаба ее личности, эффект слишком широко растворенного циркуля: в нашем представлении тысяча миллиметров много меньше одной тысячной километра. Когда ей понадобилось подтверждение какого-то факта из истории 10-х годов, она по телефону попросила приехать Ольгу Николаевну Высотскую, в прошлом актрису, сын которой от Гумилева был ненамного моложе Льва Николаевича. Мы с Борисом Ардовым привезли ее в такси с Полянки на Ордынку. Ахматова сидела величественная, тщательно причесанная, с подкрашенными губами, в красивом платье, окруженная почтительным вниманием, а ее когдатошняя соперница – слабая, старая, словно бы сломленная судьбой. Она подтвердила факт, на мой взгляд, второстепенный, из тех, которые укладываются в ахматовские же стихи «В биографии славной твоей разве можно оставить пробелы?», – и Ахматова распорядилась отвезти ее домой. Она подтвердила факт – и подтвердила победу Ахматовой. Участок фронта был тоже второстепенный, тут не требовалось артиллерии столь крупного калибра, но другой у нее не было.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу