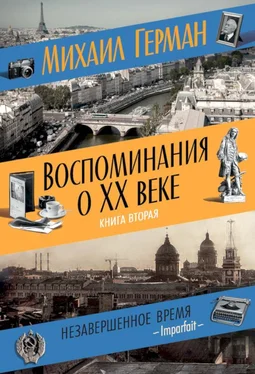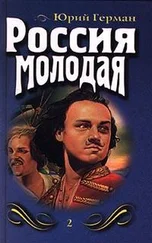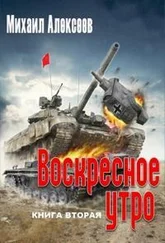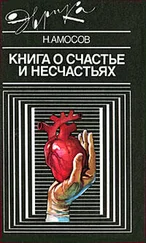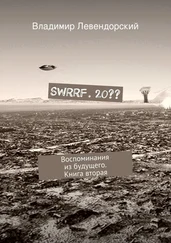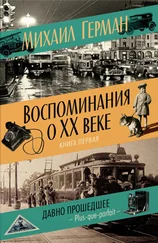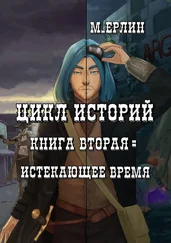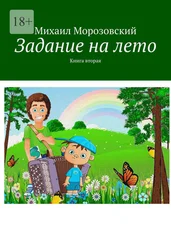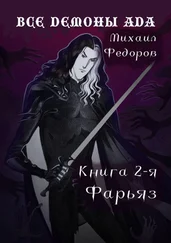Но в завершение документальных примеров тех таинственных и странных лет — еще один документ: письмо, полученное мною из Бразилии уже в конце 1992 года.
Увидев «странное измятое письмо» и «на марке иностранное почтовое клеймо», я решил, что мне прислали приглашение на какой-нибудь симпозиум. Не тут-то было.
Письмо «гласило»:
«…Я бразилец и живу в Рио-де-Жанейро. Я художник. Изучаю русский язык…»
Далее сообщалось, что бразилец прочел мою книжку тридцатилетней давности, полюбил ее и хочет поделиться сокровенным:
«Здесь, в Бразилии, мы живем в капиталистическом строе. Экологическая ситуация нехороша. Трудно жить… Помощи государства нет. Мы живем без руля и без ветрил.
Вы теперь тоже капиталисты. Это трудно понимать. Мы удивлены. Думали, что это невозможно. Вы прожили жизнь в социалистическом обществе. Что чувствуете сейчас? Вернуться к социализму возможно?..
В первые дни сентября приехали из России Нина Андреева и ее муж, члены Коммунистической партии Большевиков города Ленинграда, Виктор Анпилов, член Коммунистической партии города Москвы, и другой человек, которого я не узнал. Они прочли лекции о настоящих политических событиях в СССР…»
Бедный неведомый Луис Альберто Маркес, таинственный «мулат в белых штанах» и поклонник Нины Андреевой. Каким чудом возник он в моей жизни?!
В конце 1990-х, начиная эту — последнюю — главу, я был прав, сомневаясь, что смогу поместить в нее почти целое десятилетие. После девяностого — целая жизнь. Два путча, жизнь переменилась, миновало три моих «юбилея».
Девяностые годы стремительно и небрежно забываются, а вот писать о них воспоминания, оказывается, труднее, чем о далеком прошлом. Воспоминания — не хроника смутного времени.
Я понял наконец нехитрую истину, о которой много говорил, не сделав ее до конца своею: все в тебе самом. Никакие события в мире, ни политический строй, ни нравы, ни степень свободы — ничто не имеет значения рядом с тем, что происходит «внутри самого себя». Конечно, человек слаб и боязлив: быть свободным в несвободном мире способен лишь тот, кто отважен, силен душой и телом. Но быть свободным и независимым в мире, где запреты рухнули или, во всяком случае, сильно пошатнулись, тоже не просто, и к тому же зависит от каждого в отдельности — тут не спасет никакое «возьмемся за руки, друзья».
Мера ответственности для порядочного человека делается абсолютной. Похоже, свобода не слишком нужна стране. Еще раз приведу слова Чаадаева, оказавшиеся ныне куда более актуальными, нежели прежде: «В России все носит печать рабства — нравы, стремления, образование и даже вплоть до самой свободы, если только последняя может существовать в этой среде». Да и справедливость фразы Лермонтова, казавшейся прежде хрестоматийной и пафосной, — «Страна рабов, страна господ» оказалась в наше время еще более несомненной. Снова прав все тот же Трифонов, предположивший, что из трех составляющих души — святого, человеческого и звериного, у нас — только святое и звериное.
Грустно, что патетическому и натужному «товарищ» не нашлось иной альтернативы, чем «мужчина», а «товарищ капитан» называет солдата на «ты». Грустно видеть, что свобода для многих, слишком многих оказалось бременем. Ведь она требует решительности, ответственности, отваги и, разумеется, разумной, настойчивой, не показной работы.
Грустно, что конструктивную дискуссию сменил нынче невероятный апломб (кто в политическом споре способен высказать сомнения?.. каждый знает все и в окончательной редакции), который заряжает людей постоянной априорной неприязнью, утомительной и опасной. И разумеется, все крепнущее с восьмидесятых годов желание все валить на других, лучше всего на начальство. Не я дурак, а некий подлец меня обманул. Легко и приятно быть обиженным, трудно и противно винить себя. И напомню еще раз уже цитированные слова Хемингуэя: «Если ты, черт побери, честен, то во всем, что происходит, есть и твоя вина». Но огромный кусок моей жизни — более десяти лет — воспоминаниями все еще становиться не хочет. Книга не может вместить в себя воспоминания о самом себе: нельзя же на этих страницах рассказывать, как выходили первые издания книги! А книга и сейчас, в 2017-м, не может (и не должна, наверное) соединить минувшее с относительно недавним прошлым. «Сложное прошедшее» — совершенная, завершенная глагольная форма.
Чем ближе к нынешнему времени мой рассказ, тем больше утрачивает он жанр. Воспоминания начинают походить на смесь интимного дневника и расхожей публицистики. И надо найти момент, тот единственный, в который можно и необходимо поставить точку.
Читать дальше