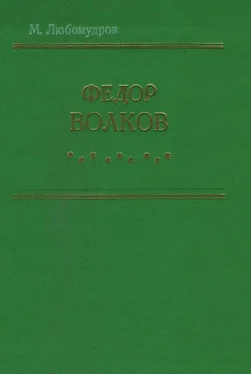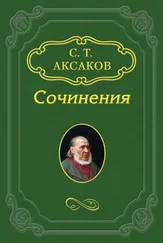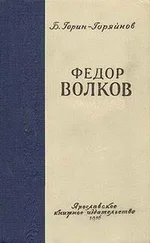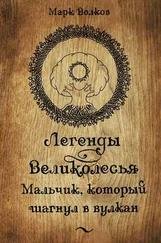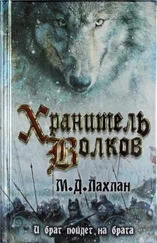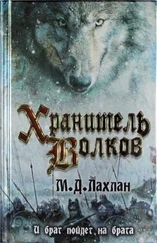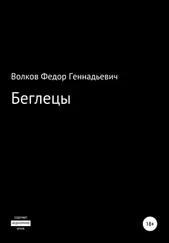За ними шли, понурив головы, обобранные искатели правосудия с пустыми котомками в руках.
Потом двигались картины «превратного света». Восьмое отделение глумилось над Спесью. Она ехала на рыдване в окружении льстецов, подхалимов, лакеев и пажей — под звуки трубачей и барабанщиков.
Заключали сатирическую часть маскарада Мотовство и Бедность со свитами. Появлялись Скупость и Роскошь с мотами-ассистентами, картежники, игроки в кости, нищие с котомками.
Маскарадной части, восславлявшей «Златой век», предшествовала колесница Юпитера, за нею возникали картины идиллии — пастухи, пастушки, Астрея, Парнас с музами, Аполлон, хор стихотворцев, земледельцы с орудиями сельского труда. Мир в «облаках» сжигал военное оружие.
И наконец, являлись Минерва и Добродетель с их «соследователями» — науками, искусствами, законами. На белых конях в ярких доспехах ехали прославленные в истории герои, шли законодатели и философы. Над колесницей торжествующей богини наук и искусств Минервы (олицетворявшей русскую императрицу) парили Победа и Слава.
Едва ли не вся Москва собралась поглядеть на необыкновенное зрелище. Тысячи людей стояли вдоль улиц. Не только окна и балконы, но и крыши домов были облеплены любопытствующими. Огромная толпа шла следом за процессией. Маскарад поразил всех великолепной слаженностью, стройностью, дисциплиной и порядком. Волков верхом на коне продолжал следить за шествием, не выпуская из поля зрения ни одну группу участников. Императрица наблюдала его, приехав в дом И. И. Бецкого и расположившись в покое, сделанном «наподобие фонаря» (видимо, на веранде).
Яркое описание маскарада дал А. Т. Болотов. «Вся Москва обратилась и собралась на край иной, где простиралось сие маскарадное шествие, — писал он. — И все сие распоряжено было так хорошо, украшено так великолепно и богато, и песни и стихотворения петы были такими приятными голосами, что не инако, как с крайним удовольствием на все то смотреть было можно».
Впечатление от «Торжествующей Минервы» было столь сильным, что память о ней сохранялась многие годы. Мало найдется мемуаристов эпохи, кто бы не вспомнил о волковском маскараде. Его песни и тексты так полюбились москвичам, что, по свидетельству того же Болотова, «долгое время и несколько лет сряду увеселялся ими народ, заставливая вновь их петь фабричных, которые употреблены были в помянутые хоры и научены песням оным».
Первого февраля, в субботу, и второго — в прощеное воскресенье (последнее воскресенье перед великим постом, когда, по обычаю, просили друг у друга прощения за прошлые обиды) — маскарадное шествие было повторено. Однако вдруг изменилась погода, ударил крепкий мороз, наступило сильное похолодание. Небо прояснилось, но явился студеный, порывистый ветер, до костей пробиравший людей. Поглощенный распорядительными заботами Волков скакал вдоль вереницы маскарадных саней, отдавая команды. Ему было жарко, он не замечал стужи. Оттого и распахнул полушубок, расстегнул воротник кафтана. Лишь тогда, когда последний возок втянулся на площадь перед головинским дворцом, Федор Григорьевич сошел с коня. Той же ночью он почувствовал сильный озноб — наутро обнаружились признаки жестокой простуды.
Все предусмотрел, обнаружив исключительный талант организатора, создатель уникального и поистине всенародного театрального произведения, но, как бывало и прежде, недосмотрел одного — не уследил за собой. Не пощадил сил и здоровья, сопровождая свое детище, которое долг обязывал довести до полного окончания.
Чтобы обеспечить лучший уход за больным, его, закутав в несколько тулупов, в закрытой карете перевезли в больничные кельи Златоустовского монастыря. Свои именины и день рождения Волков пролежал в тяжелом жару. Товарищи ежедневно навещали его. Присланные от двора медики определили «гнилую горячку» (воспаление легких, как сказали бы сегодня). Болезнь, упорствуя, затягивалась. Наконец сильная, здоровая по природе натура Волкова стала, казалось, одерживать верх. Но в этот момент новая хворь настигла его. Как свидетельствовал Н. И. Новиков, «наконец сделался у него в животе антонов огонь», от чего Волков и скончался 5 апреля 1763 года (причиной смерти, видимо, оказался гнойный аппендицит).
Молодой русский театр понес самую тяжелую утрату, какую только мог тогда понести. Горе было всеобщим — множество людей оплакивало безвременную смерть артиста. Восьмого апреля Москва хоронила своего любимца. Церемония была торжественной и многолюдной. Императрица отпустила на похороны значительную сумму — тысячу триста пятьдесят рублей.
Читать дальше