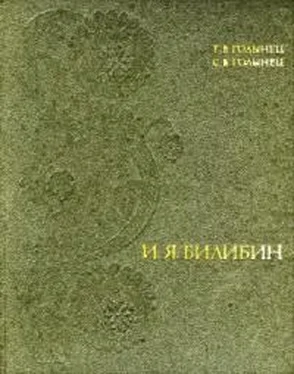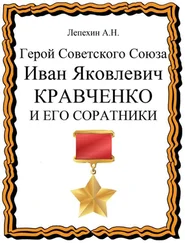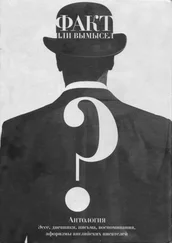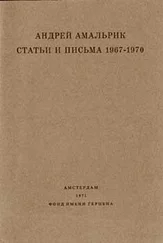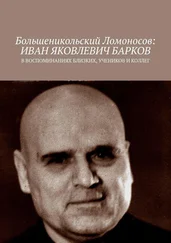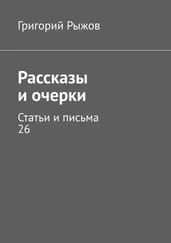Своеобразное использование традиций древнерусского и народного искусства и логическая последовательность графических приемов, сохранившиеся на протяжении всего творческого пути Билибина, дали возможность говорить о билибинском стиле.
«Основная линия моей художественной работы была мною найдена с первого же шага, и дальше я только развивал и углублял ее», — писал Билибин в автобиографии [** И. Я. Билибин. Автобиография. ГПБ, ф. 1015, ед. хр. 1139, л. 1.]. Летом 1899 года молодой петербургский художник, ученик И. Е. Репина по Тенишевской мастерской, впервые попал в глухую русскую деревню. Он отдыхал в усадьбе Егны, Весьегонского уезда, Тверской губернии. Билибина поразили дремучие леса, таинственные речки и озера, песни и сказки, услышанные у крестьян. В воображении ожили впечатления от недавних выставок В. М. Васнецова и Е. Д. Поленовой [*** Выставка В. М. Васнецова была открыта в Петербурге в начале 1899 г. Посмертная выставка Е. Д. Поленовой входила в состав Международной художественной выставки картин журнала «Мир искусства» (январь—февраль 1899 г.).]. Художник начал иллюстрировать русские народные сказки. Осенью того же года его акварелями заинтересовалась Экспедиция заготовления государственных бумаг. Учреждение, обладавшее лучшей в стране полиграфической базой, наметило выпустить серию сказок с билибинскими иллюстрациями.
Над шестью книжками, изданными Экспедицией в виде крупноформатных тетрадей, Билибин работал в течение четырех лет. В этой работе складывались основные черты билибинского стиля. Волшебный мир сказки слился с образами русской старины. В иллюстрациях использованы зарисовки крестьянских построек, утвари, одежды, выполненные в Весьегонском уезде; отразились и первые впечатления от московских архитектурных ансамблей: во многих листах встречаем слегка измененный абрис Кремлевской стены с виднеющимися из-за нее куполами соборов. Для буквиц и надписей взяты шрифты рукописных и старопечатных книг. Однако в этот период Билибин был знаком с древнерусским и народным искусством не столько по первоисточникам, сколько по работам своих предшественников. Он заимствовал мотивы у В. М. Васнецова, Е. Д. Поленовой, С. В. Малютина, М. В, Якунчиковой, Н. Я. Давыдовой. В заставки, концовки и рамки вносил элементы современного прикладного искусства: резьбы по дереву и выжигания. Художник еще не обладал теми обширными научными знаниями, которые определят характер зрелого билибинского стиля.
Яркая сказочность сочетается у Билибина с чувством народного юмора. Несомненное влияние оказали на него карикатуры П. Е. Щербова и сатирические рисунки А. Ф. Афанасьева к «Коньку-горбунку», опубликованные в журнале «Шут», для которого начинающий иллюстратор сам выполнял небольшие работы. Билибин любит шутку, нередко грубоватую, умеет обыграть комическую бытовую деталь, подметить смешную черту в облике человека и довести ее до гротеска. В акварелях к «Царевне-лягушке» и к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке» — перед нами галерея спесивых, надменных и глупых царей, бояр, стражников, образы которых будут встречаться на протяжении всего творчества Билибина, а иллюстрация к присказке «Жил-был царь. . .», понравившаяся В. В. Стасову[* В. В. Стасов. Пять выставок. У декадентов. — «Новости», 1900, 14 марта.], предвосхищает билибинские карикатуры 1905 года.
С первых шагов творческого пути Билибин проявил себя художником книги, он не ограничивался выполнением отдельных иллюстраций, а стремился к ансамблевому решению. Конечно, Билибину не сразу удалось преодолеть груз невысокой оформительской культуры того времени. Он перенасыщал книгу украшениями, заключал все иллюстрации в сложные, обособляющие их и нарушающие единство ансамбля рамки.
В иллюстрациях к народным сказкам виден вкус Билибина к строгой линейности. Почувствовав специфику книжной графики, он подчеркивает плоскость контурной линией и однотонной акварельной раскраской. Но недостаточное владение рисунком сковывает иллюстратора. Он еще не может «творить окончательную черную линию» [** И. Я. Билибин. Программа занятий графиков на графическом отделении живописного факультета ВАХ на 1938/39 учебный год. Архив семьи художника. См. стр. 56, 57 настоящего сборника.], а робко обводит тушью фигуры, предметы и детали пейзажа, кое-где пытается моделировать объем свободным, не подчиненным графической дисциплине штрихом и светотенью. Поэтому его ранние иллюстрации воспринимаются еще как картины, в которые лишь внесен элемент графичности.
Читать дальше