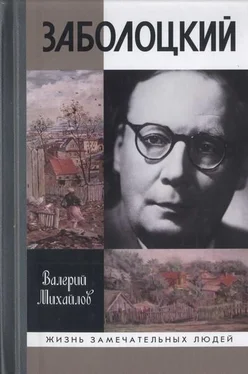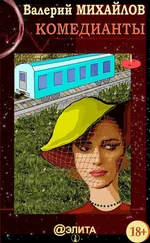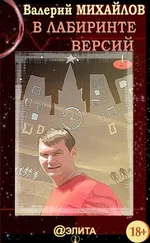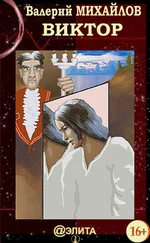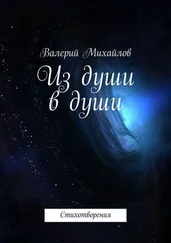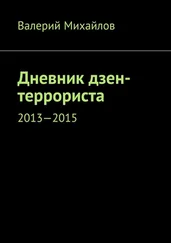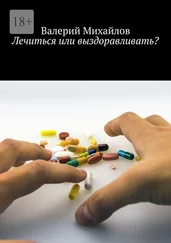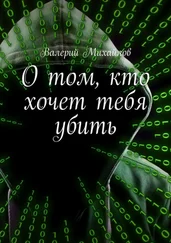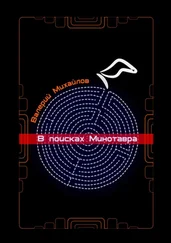Молодой Николай Заболоцкий уверенно осмысливает теоретические убеждения и методы символистов, начиная с Эдгара По, Верлена, Бодлера и заканчивая Бальмонтом, Брюсовым и Андреем Белым. В заключение он убедительно опровергает взгляды поэта Льва Эллиса, автора книги «Русские символисты». Эллис понимал символизм не просто как художественное направление, а как средство, и разделял «идейный символизм» на несколько разрядов: моралистический (Ибсен), метафизический (Рене Гиль), индивидуалистический (Фридрих Ницше), коллективный, соборный и т. д.
«Символизм есть всегда самоцель, поскольку стремление приобщиться Эльдорадо является самоцелью этого же рода, — заключает Заболоцкий. — Певец Бранда и „безумный язычник“ Ницше говорит нам слишком много своего, цельного и безусловно оригинального, так что элементы символизма, если они и присущи их поэзии, то настолько отходят на второй план, что делаются едва заметными.
Но не в этом ли и заключается своеобразная литературная преемственность, что каждое последующее литературное движение обрабатывает предшествующее, вводя на первый план оригинальные положения и литературные формы».
В этом выводе молодого поэта вполне определённо сказано о смысле и направлении его исканий, о том, каким путём он шёл, определяя свой собственный, отличный от других, поэтический голос.
А сама статья — пример того, как серьёзно штудировал Заболоцкий уроки «отцов». Его зрелая поэзия говорит, что не менее вдумчиво он учился и у «дедов» и «прадедов» — поэтов XIX и XVIII веков, как внимательно и любовно читал «Слово о полку Игореве», русские летописи.
Михаил Касьянов, однокашник Заболоцкого по Уржумскому реальному училищу, вспоминал, как впервые увидел своего будущего закадычного товарища. Лобастый паренёк — четвероклассник, как ему показалось, немного смущался, но взгляд имел твёрдый. Про стихи, которые сочинял с детства, Коля считал, что это уже на всю жизнь. Другу как-то сказал: «Знаешь, Миша, у меня тётка есть, она тоже пишет стихи. И она говорит: „Если кто почал стихи писать (так и сказал — почал), то до смерти не бросит“».
В столбцах, где Заболоцкий «придвигает» вплотную к глазам зрителя «голые конкретные фигуры», сколачивает и уплотняет до отказа «предмет», он о поэзии и стихах и говорит не напрямую, а предметно и фигурно : они как бы растворяются в словесной ткани, воплощаясь в том или ином образе.
Вот стихотворение «Дума» (1926). Здесь то, что классики называли музой, вдохновением, поэзией, творчеством, выступает у Заболоцкого в образе «ночь». Он даже прибегает к просторечию, как в русских говорах (на взгляд педантов от грамматики — неправильных, но на самом деле своевольных и верных истинному чувству языка):
Приди, мой ночь!
Ведь ты была,
и Пушкину висела сверху,
и Хлебникову в два ряда́
салютовала из вагона.
……………………………………
Приди, мой ночь!
На этом мире
я чудным вымыслом брожу,
гляжу в стекольчатые двери,
музы́кой радуюсь, дыша,
сжимаю белые колени
в пылу полуночного бденья,
приди, мой ночь!
Мне стало больно,
Что я едва-едва велик.
………………………………………
И вот, моленью тихо внемля,
духовная приходит ночь.
К тому же 1926 году относится известное стихотворение «Лицо коня». Вроде бы оно о животных, которые «не спят» и «во тьме ночной (заметим, снова ночь, или же иначе — время вдохновения. — В. М.) / стоят над миром каменной стеной». Однако в образе «коня», похоже, не только животное, но и мифический Пегас, да и поэт, сочинитель, творец стихов:
Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
и в ветхой роще рокот соловьиный.
И, зная всё, кому расскажет он
свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На тёмный небосклон
восходят звёзд соединенья.
И конь стоит как рыцарь на часах,
играет ветер в лёгких волосах,
глаза горят как два огромных мира,
и грива стелется как царская порфира.
И если б человек увидел
лицо волшебное коня,
он вырвал бы язык бессильный свой
и отдал бы коню. Поистине достоин
иметь язык волшебный конь.
Мы услыхали бы слова.
Слова большие, словно яблоки. Густые
как мёд или крутое молоко.
Слова, которые вонзаются как пламя,
и, в душу залетев, как в хижину огонь,
убогое убранство освещают.
Слова, которые не умирают
и о которых песни мы поём…
Читать дальше